История единого-единственного бога
Фрагмент послесловия к пьесе, найденной на автобусной остановке
Фото предоставлено Издательством Института технотеологии
В прошлом году в Издательстве Института технотеологии вышла пьеса под названием «ЦКБ „Плерома“. Производственная драма знания», текст которой философ Михаил Куртов, по его словам, нашел на автобусной остановке в городе Кудрово в 2023 году. Имя автора пьесы ему установить не удалось, но он написал к ней послесловие, с фрагментом которого «Горький» и предлагает ознакомиться своим читателям.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
ЦКБ «Плерома». Производственная драма знания. Петроград: Издательство Института технотеологии, 2025

Открытием философа Фридриха Шеллинга было то, что религия — это процесс: не просто исторический процесс развития религиозных представлений, а «теогонический процесс», то есть внутреннее, имманентное развитие божественного. Таким же открытием философа Жильбера Симондона в применении к технике было то, что техника есть прежде всего «генезис», имманентная эволюция. Теогонический процесс, как и техническую эволюцию, нельзя остановить (по сути, оба они являют собой единое духовно-материальное развитие), но его можно в известных границах направлять и модулировать.
Обозрим основные фазы теогонического процесса на его первом большом этапе (далее я сжато перескажу теорию синтеза богов, о которой можно больше узнать, например, из текста «Тысяча лайков земных»). Вначале, во времена анимизма, божественное представлено как «мелкоячеистая сетка» (Б. Поршнев) — бесчисленное множество рассеянных повсюду сгустков священного («все полно богов» Фалеса). Затем, в порядке «естественной» эволюции, эти сгустки начинают синтезироваться и компрессироваться в более крупные «пакеты» священного сообразно с их пространственной, временной и функциональной близостью. Так, в греческой религии множество духов полей и лугов сжимаются в богиню Деметру, множество духов ночи — в богиню Нюкту, а множество духов, связанных с умиранием, — в бога Танатоса. Эта фаза получила название политеизма: божества уже актуально не бесчисленны, и каждый новый сгусток священного не просто прибавляется к общему множеству, а перераспределяется среди основных божественных акторов и их субакторов (подчиненных им божков, духов и пр.). Когда из этого ограниченного ряда акторов начинает выделяться один как более могущественный, то есть способный синтезировать и компрессировать в себе относительный максимум сгустков священного, говорят о фазе генотеизма (таковы Зевс, Ахура Мазда, Брахман, Яхве Первого храма…). Наконец, синтез и компрессия богов западносемитского пантеона в едином и единственном боге иудаизма Второго храма образуют собой последнюю фазу, называемую монотеистической.
Эта последняя фаза первого большого этапа теогонии не была лишена драматизма, поскольку усилия по синтезу единого-единственного бога то и дело подрывались. Достаточно вспомнить неудачную попытку фараона Эхнатона установить культ Атона («амарнская революция») или безуспешные поначалу попытки Моисея сместить культ Золотого Тельца. Главная инновация и успех иудаистического монотеизма были связаны не столько с особыми усилиями синтеза и компрессии, сколько, как полагают исследователи, с последовательным вычитанием остатков священного (Марк С. Смит называет этот процесс «конвергенцией и дифференциацией», а Ян Ассман — «моисеевым различением»). В иудаизме Второго храма отдельные племенные божества западносемитского пантеона мыслятся уже просто-напросто как имена единого-единственного бога, различающиеся только по контексту употребления и ритуальной функции (Яхве, Элохим, Адонай, Саваоф…). Остальные же божества, которые не удалось синтезировать и компрессировать в едином-единственном боге, были вычтены, отсеяны как ложные или несуществующие (Баал, Астарта, все идолы, объявленные Исаией «ветром и пустотой»…), причем иногда насильственным способом.
С окончанием первого большого этапа теогонического процесса сам этот процесс не заканчивается — хотя и кажется, что дальше «единицы» развиваться некуда… Следующий большой этап связан с возникновением культа Христа и слиянием иудаистической мифологии с эллинистическими спекулятивными техниками. Как возможен дальнейший теогонический процесс в условиях финального синтеза и компрессии божеств в одном-единственном боге, подстрахованных вычитанием излишков священного? На этот вопрос исторически имелось как минимум два ответа, один был дан ортодоксальным христианством, другой — гетеродоксальным, гностическим: это, соответственно, теогонический процесс внутри бога (история конструирования Троицы) и до бога (история конструирования Плеромы). Поскольку о первом хорошо известно по истории Вселенских соборов (расщепление единого-единственного бога на три «ипостаси» в официальной соборной концепции, а иногда на две, как в «ереси» модализма, и даже на четыре, как у патриарха Александрийского Дамиана), сосредоточимся сразу на втором.
Гностицизм почти во всех своих исторических формах предстает как попытка ретросинтеза одного-единственного бога, как «синтез вспять». Реальность финализированного «пакета» священного, закрепленного под именем Яхве, уже не отрицается, не подвергается сомнению как «эволюционный факт», но перед ним выстраивается некая предыстория его образования, своего рода приквел к Книге Бытия — история так называемой Плеромы («Полноты»). Бог иудеев теперь уже не первый и единственный, а последний бог (или один из последних) в длинном, но не бесконечном ряду предшествовавших ему божеств, называемых эонами.
Отметим, что в случае плеромообразования речь технически не идет об откате к многобожию, то есть к более ранним фазам теогонического процесса. Все это уже происходит в мире, где никаких других «истинных» божеств нет, — есть только история единого-единственного бога и «шум» остаточных сгустков священного вокруг нее (к такого рода «шуму» относятся, скажем, джинны в исламе, этой религии строжайшего единобожия). Другое дело, что этот единый-единственный бог может занимать разные места в иерархии, то есть в вертикальном ранжировании сгустков священного. Подобно тому как Псевдо-Дионисий Ареопагит — уже значительно позже валентиниан — описывает «священноначалие» различных небесных сил (серафимов, херувимов, престолов…), подчиненных единому-единственному богу, так и валентиниане фактически описывают аналогичную иерархию, только как бы сдвигают бога Ветхого Завета на более низкую ступень, следующую за эонами. Сам факт формальной множественности сгустков священного еще не служит свидетельством многобожия, как могут подумать ортодоксальные христиане, иначе им придется вслед за мусульманами признать «язычеством» (ширком) веру в Христа как бога и в Троицу (формальное удвоение и утроение). (Ислам в этом плане можно рассматривать как третий, более поздний ответ на завершившуюся историю синтеза единого-единственного бога: управление теогоническим процессом в его случае заключаются в неослабном усилии удерживания абсолютной единичности бога, итеративном вычитании всякого 1+божества, также предполагающем определенную долю насилия.)
Известно, какую угрозу для христианской церкви как социального института представлял теогонический процесс внутри бога: все первые Вселенские соборы (IV в. и далее) были сосредоточены на урегулировании этого процесса, принявшем форму борьбы с христологическими и тринитарными ересями. Но еще бóльшая опасность таилась в предшествовавшей эволюции бога до бога у гностиков (II‒III вв.) — опасность бесконечного регресса. Христианский богослов Ириней прямо указывал на нее, раздраженно замечая, что нет конца все новым и новым эонам, которые выдумывают гностики (у Ипполита, скажем, их насчитывалось уже 365 — по числу дней в году, тогда как первоначальные 30 эонов у Валентина возводились то к числу дней в месяце, то к возрасту Христа при крещении). Это, разумеется, не то, что церковь как институт была бы рада предложить пастве, ищущей твердой почвы для своей веры (как пишет Ириней в книге I гл. XVI трактата «Против ересей», «сколь поэтому безопаснее и вернее с самого начала признать истину, т. е. что Бог Творец, Который создал мир, есть единый Бог и кроме Его нет иного Бога»). Так что решение о вытеснении гностицизма — этой фактически первой христианской ереси — из общественной и интеллектуальной жизни было принято ортодоксами сразу, можно сказать, на уровне инстинктивной защитной реакции.
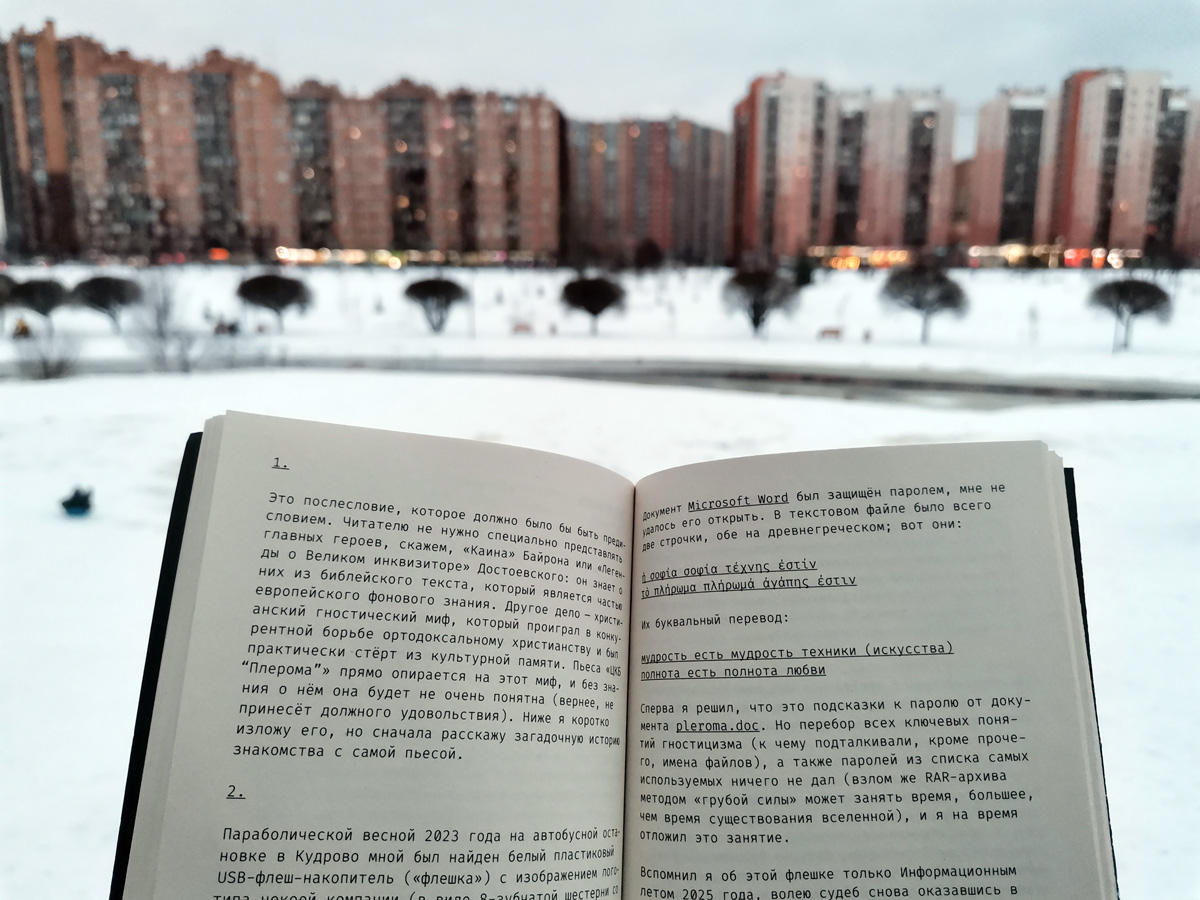
Важным различием между теогоническими процессами внутри и до бога является то, что первый осуществляется в пространственном измерении: это отношение единого и множественного, которое может быть описано статичными терминами, логическими или геометрическими (как в триадологии Августина или греческих Отцов церкви). Тогда как второй осуществляется (и описывается) не в пространстве, а во времени: это отношение между до и после, отношение не статическое, логическое, а динамическое, драматическое (греческое слово δρᾶμα означает «действие», а действия — это как раз то, что и создает до и после). Управлять первым процессом, как кажется, проще — если, конечно, им занимаются те, кто по складу своего ума больше логик, чем драматург (а таковыми в большинстве своем являлись ранние христианские богословы).
Здесь мы подходим к главному литературно-философскому достоинству и главному парадоксу гностического мифа, с которыми непосредственно и работает пьеса. Этим достоинством является драматизм (сравнимый с драматизмом ветхозаветных и новозаветных рассказов): отвлеченные сущности, такие как Ум или Истина, не просто выстраиваются в формальную схему, как у неоплатоников или стоиков (чьи построения, безусловно, повлияли на миф), а помещаются в разворачивающуюся конфликтную историю. Без конфликта, как известно, драма не драма. Центральным конфликтом валентинианского мифа, принесшим ему заслуженную славу, является конфликт Софии с ее божественным окружением (до появления Иисуса за нее особо некому было заступиться, хотя обитатели Плеромы в целом были настроены к ней сочувственно), и уже только вторичным конфликтом, возникающим вследствие действий Софии, — отношение между материальным миром и Плеромой. Потому-то такими неубедительными сегодня кажутся нападки ранних, да и современных, критиков гностицизма, исходящих из догмы или здравого смысла: они словно не замечают внутренней красоты этой рассказываемой гностиками истории, перевешивающей все их рассудочные возражения.
Драматизм — это также то, что делает валентинианский миф ультрасовременным (и в известном смысле вневременным). Так, Жиль Делёз говорил (1967) о «методе драматизации» в философии — о необходимости «драматизировать концепты», поскольку «драма <кроется> за каждым логосом». Гностики, «появившиеся как грибы из земли» («Против ересей», книга I, гл. XXIX), вообще напоминают этаких христианских делёзианцев, постоянно что-то выдумывающих, изобретающих, драматизирующих… Для них, несмотря на общий пессимизм относительно тварного мира, вопросы культового знания — это явно более «веселая наука», чем для раннехристианских авторов, зараженных духом уныния, который они всеми силам пытались изгнать из своих келий (см. первый том «Добротолюбия»). (К слову, Иисус гностиков, в отличие от Иисуса ортодоксов, смеялся: см., например, «Евангелие Иуды» и «Коптский Апокалипсис Петра».) В дальнейшей истории мысли, вплоть до эпохи Ренессанса, такой органичный и возвышенный сплав внутреннего драматизма и концептотворчества имелся еще разве что у средневековых суфийских авторов, возможно, находившихся под влиянием гностических учений (Яхья ас-Сухраварди, Ибн Туфайль, Рузбихан Бакли Ширази…).
<…>
Двигателем драматизации в гностическом мифе выступает конкретный риторический механизм — арка персонификации — деперсонификации (олицетворения — разолицетворения). Абстрактные сущности (такие как Молчание, Мудрость…) становятся не просто агентами, то есть некими действователями, но именно персонами, «действующими лицами», ведущими себя подобно обычным людям, — полуарка персонификации. При этом предполагается, что слушатель или читатель мифа должен держать в голове, что речь в случае этих «персон» идет всегда и именно об абстракциях и отношениях между ними (отношении Ума и Правды, Мудрости и Глубины…), — полуарка деперсонификации. (В качестве исторического примера методического движения по полуарке деперсонификации можно привести писания Филона Александрийского, аллегорически переистолковывавшие истории ветхозаветных персонажей как отношения между понятиями, например супруги Моисея Сары и его любовницы Агарь — как отношения между истиной и образованием.) Пьеса широко эксплуатирует этот риторический механизм, доводя посредством него гностический миф до предела, то есть превращая его буквально в произведение драматического жанра. Микродвижения по этой риторической арке в обе стороны и создают внутреннее движение всей пьесы: внешне она может казаться статичной, если только не учитывать, что основное ее действие разворачивается в области мысли («производственная драма знания»).
Я медленно подхожу к тому, что выше назвал главным парадоксом гностического мифа (от которого я уже смогу перейти к обсуждению значения той его полемической переинтерпретации, которая дается в пьесе). Чтобы сформулировать его, необходимо немного сказать о значении гностицизма как культурно-политического явления. Историк религии Кулиану прав, говоря о гностицизме как первой «контркультуре» и первой «герменевтике подозрения». У философа Карла Поппера было знаменитое сравнение «теорий заговора» с мироощущением героев Гомера, для которых все человеческие дела предопределяются заговором богов на Олимпе; однако это еще нельзя назвать в полном смысле заговором, так как сами козни богов ни для кого тогда не были секретом. В случае же гностического мифа утаенным оказывается сам факт заговора — что в большей степени соответствует употреблению этого понятия: людям внушается, что их сотворило некое существо, которому они должны поклоняться, а на деле это существо само сотворено и сотворило их скорее по неразумению и даже недоразумению. Гностицизм гиперподозрителен, антитетичен. На эмоциональном уровне это то, что во многом движет его последователями, — желание докопаться до скрываемой истины.
Вместе с тем сама эта гиперподозрительность гностицизма также есть следствие его драматической природы: как и драматург, гностик всюду ищет конфликт, а поскольку это конфликт не практический, а теоретический, конфликт внутри знания, он приобретает форму подозревающего перетолкования, антитетического прочтения. Все библейские свидетельства поэтому перепрочитываются гностиками как свидетельства от обратного (Кулиану называет это «обратной экзегезой»). Так, бог по имени Яхве, упоминаемый в Книге Бытия 2:4 и далее, противопоставляется ими богу по имени Элохим из Книги Бытия 1:1–2:3 как ложный бог — истинному: первый создает человека из «земного праха», второй — «по своему образу и подобию». Но этот дуализм, к которому часто сводят весь гностический миф (например, Йонас), возникает, думается, скорее как эффект драматизации, тяги к драме: для конфликта нужно, чтобы было чего-то два (уже пифагорейцы и древние китайцы ассоциировали двоицу с раздором). Пресным и скучным такому драматически настроенному толкователю представляется ортодоксальный библейский миф и вообще все христианское богословие, в котором хотя и есть супостат, Сатана, но он то ли всегда уже проиграл, то ли проиграет гарантированно, да и вообще является, согласно догматическому толкованию, идущему от Августина, тенью на божественном лике, скорее чистой лишенностью бытия, добра и света, чем онтологически самостоятельной сущностью, которая могла бы что-то весомо противопоставить единому-единственному богу.
Конфликт для ортодоксального христианина де-факто перенесен с небес на землю, посеян в делах человеческих (и только при наступлении «конца света» вновь перенесется «наверх», воплотившись в мифической битве архангела Михаила с драконом, согласно Откровению Иоанна Богослова). Самый первый из описанных в Книге Бытия конфликтов — драма в Эдемском саду — случается именно в связи с человеком и по его вине. «Наверху», мол, все нормально, все путем, это человек «пал», вкусив от древа знания и т. д. Конечно, до того была история с падшим ангелом, который после выступил посредником в человеческом грехопадении (притворившись змеем на древе), но всю полноту ответственности за этот промах или грех (словом «грех» обычно переводят греческую ἁμαρτία, буквально значащую «промах») несет именно человек как существо, способное к свободному выбору. Гностический миф утверждает: ортодоксы перекладывают проблему с больной головы на здоровую. Тем самым он снимает с человеческих плеч бремя чужого греха: мол, разберитесь сперва у себя в конторе, а потом уже приставайте к счастливой супружеской паре на вечном отдыхе. В «Апокрифе Иоанна», правда, есть намек на то, что и Рай был, по выражению переводчика-коптолога Четверухина, всего лишь «земным увеселительным парком», специально созданным змеем-Демиургом, чтобы заманить человека в ловушку, — подозрительность гностиков тотальна…
Главный парадокс же валентинианского мифа состоит, на мой взгляд, в том, что, разворачивая машинерию подозрения в отношении ортодоксальных толкований, он остается неподозрителен к самому себе. Можно понять Иринея, когда он, пусть неуклюже и пародийно, пытается показать, как можно развить или переосмыслить гностический миф (но дальше овощного рагу не заходит). Но почему в самих гностических писаниях мы не находим попыток развить, например, историю до Плеромы (приквел к приквелу)? Или хотя бы переосмыслить отношения между основными действующими лицами в истории «падения» Софии? (Мне, по крайней мере, такие попытки неизвестны.) Откуда такое недоверие к ортодоксальной версии и такое доверие к гетеродоксальной? Вполне возможно, что если бы гностицизм развивался так, как он развивался, не становясь при этом государственной религией, что в какой-то момент произошло с христианством (поскольку тогда процесс развития был бы задержан наверняка), то у нас сегодня были бы такие альтернативные, метагностические рассказы. В том числе антитетически переворачивающие гетеродоксальную версию обратно в ортодоксальную (мол, до Глубины тоже был Яхве и т. д., почему нет, дорогой-недорогой Ириней?).
Собственно говоря, именно такое метагностическое переистолкование — подозрение к подозрению, заговор внутри заговора — и предлагается в пьесе. Не только христиане-ортодоксы переложили проблему с больной головы на здоровую, с бога-демиурга на человека, но и сами гностики — с несчастного человека на несчастную Софию. Пьеса делает виноватым уже не Мудрость, а Ум (в пику «просветителю» Люциферу в байроновском «Каине»: «Ничто не может / Погасить ум [the mind], если ум хочет быть самим собой / и центром окружающих вещей, — он рожден, / Чтобы господствовать»). Казалось бы — велико ли достижение? Если речь идет о причинах зла и смерти, кто-то, само собой, всегда будет назначен виновным.
Здесь нужно сказать о смысле подобных переистолкований вообще. Кулиану в своей книге предпринимает попытку осмыслить мифотворческую и интерпретационную активность гностиков (приведшую в том числе к установлению официального христианства) как логическую игру неутомимого человеческого ума: истолковывая историю собственного происхождения, ум не успокоится, пока не пройдет все пути в двоичном дереве вариантов, даже самые странные и алогичные. Но откуда вообще берется эта игра, каковы ее причины? Выше мы уже ответили на этот вопрос словами Делёза: это «драма за каждым логосом», человеческая потребность в драматизации. Драматическая игра знания развивается не монотонно, она претерпевает периоды подъема и спада, что связано со стремлением любой живой системы к стабилизации. Достижение стабильного состояния — в драматической игре знания или в теогоническом процессе — происходит тогда, когда дан более-менее удовлетворительный ответ на вопрос, поставленный окружением системы (и даже насильственное прекращение развития начинается, как правило, не ранее, чем дан такой ответ). Оттого-то гностики и не пошли дальше истории с Софией: им ее было достаточно для ответа на вопрос, что с миром не так; и оттого, возможно, пьеса останавливается на Уме как на виновнике всех проблем: наша, постпросветительская, чересчур рационалистичная эпоха имеет к Уму, пожалуй, больше всего вопросов…