Источник репрессий — источник информации
Из книги Ренате Лахманн «Лагерь и литература»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ренате Лахманн. Лагерь и литература. Свидетельства о ГУЛАГе. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Перевод с немецкого. Содержание
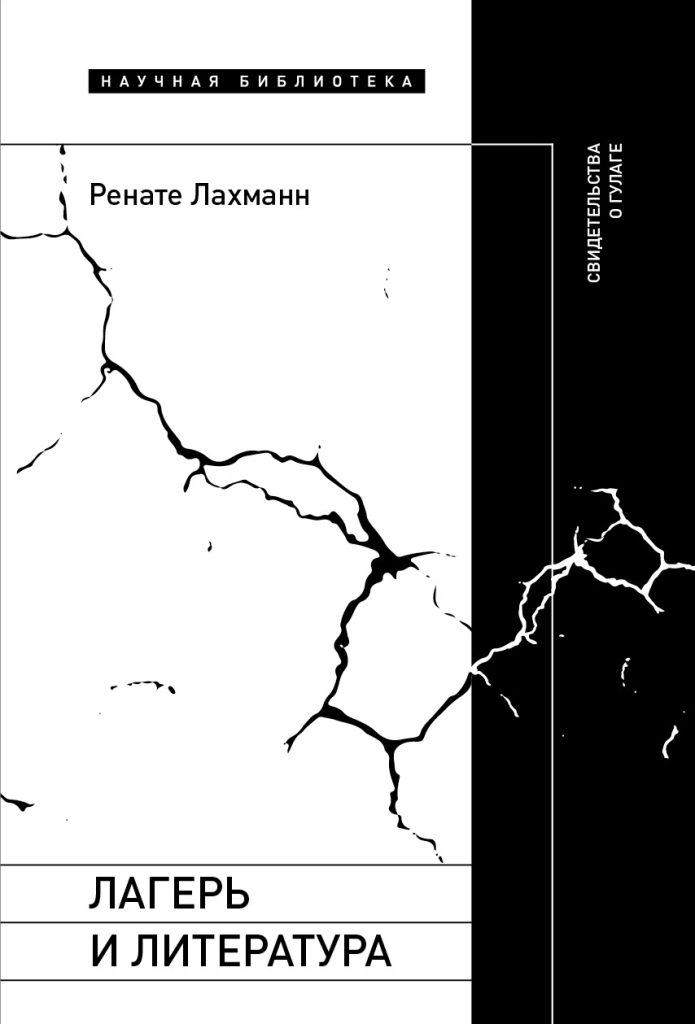 Начать я хотела бы с обсуждения трех разных подходов к теме: антропологического и поэтического, которые, на мой взгляд, представляют соответственно Цветан Тодоров и Данило Киш, а также «психоисторического», в постсоветской перспективе успешно реализованного Александром Эткиндом.
Начать я хотела бы с обсуждения трех разных подходов к теме: антропологического и поэтического, которые, на мой взгляд, представляют соответственно Цветан Тодоров и Данило Киш, а также «психоисторического», в постсоветской перспективе успешно реализованного Александром Эткиндом.
Тодоров и Киш отталкиваются от текстов, оставленных им жертвами двух тоталитарных систем: первого это чтение побуждает к принимающей форму трактата рефлексии на тему conditio humana, второго приводит к созданию крупных художественных проектов. Основываясь на многочисленных свидетельских рассказах о лагерях смерти и принудительного труда, в книге «Лицом к крайности» (Face à l’extrême, 1991) Тодоров еще раз, во многом сопоставляя Освенцим и Колыму, принципиально и с моральной настойчивостью поднимает фундаментальные вопросы вины и человечности. И все это на фоне событий в его родной Болгарии, история которой местами — в скобках и курсивом — сопровождает текст грозной тенью. Ребенок и подросток, сын вступившего в коммунистическую партию отца и внук осуждающей это бабушки, он чувствует себя свидетелем эпохи, но и человеком, который, подобно отцу, не позволял себе отчетливо осознать происходящее (аресты и расстрелы не согласных с линией партии сограждан). Это частное поведение невмешательства, терпимости, попустительства служит ему отправной точкой для того, чтобы объяснить самому себе и читателям преступную пассивность свидетелей (имеются в виду сторонние наблюдатели), которая в обеих тоталитарных системах превращала их в соучастников. Упоминает он и самообвинения лагерников, которые во время случайных передышек воспринимали чужие страдания равнодушно, а впоследствии сожалели о своем поведении. Под таким углом зрения Тодоров убедительно переосмысляет часто рассматриваемые тексты Леви, Гинзбург, Бубер-Нойман, Солженицына, Беттельгейма, Жана Амери, вплетая в эти рассуждения собственную моральную семантику.
Он словно рассматривает самого себя как кого-то, кто находится лицом к крайности: позиция эмпатии, никогда, однако, не забывающей об аналитической дистанции. Изучение лагерных текстов приводит Тодорова к созданию антропологии, призванной выработать новые термины для понимания противоречий, с которыми столкнулись люди, оказавшиеся face à l’extême, люди, хотевшие выжить и вынужденные смириться с отсутствием у солагерников шансов на выживание. К этому же контексту принадлежит и дифференцированный подход Тодорова к таким понятиям, как банальность зла, коллективная вина немцев, уникальность нацистских преступлений. Это одна из точек зрения, с которых он исследует лагерные тексты, высказывая удивительные взгляды, признающие вездесущесть зла и тем самым снимающие с него бремя уникальности. Но в некоторых местах рассуждений о зле (как антропологической величине) Тодоров возвращается ко злу системы, тоталитарной диктаторской системы. Лагерное зло, таким образом, предстает следствием зла системного — это не подлежит сомнению. Однако системное зло тем самым обезличивается, то есть упускается из виду тот факт, что системное зло совершалось акторами, которых можно назвать по именам. Отличительной чертой антропологического проекта Тодорова или, вернее, его проекта этики in extremis — наряду с подробным изложением аргументов «за» и «против» в вопросах коллективной вины и сопоставимости Освенцима с Колымой — выступает поразительное обращение к перечню добродетелей, включающему такие понятия, как достоинство, забота, дух. Высказывания узников лагерей здесь опять-таки передаются и развиваются путем сочувственного вникания, позволяющего воздать должное жертвам (по большей части посмертно). Тодоров читает эти отчеты не как литературовед, которого интересуют нарративные и риторические приемы, подобно тому как он анализировал их в своих образцовых исследованиях структуралистского толка, а как читатель, имеющий дело с принципиально иным жанром. Жанром, требующим иной рецептивной позиции — такой, при которой реципиент приближается к пишущему «я» (то есть «я» того, кто написал текст) диалогически, а не описательно (притом с точки зрения сопереживающего современника).
Это делает текст Тодорова, насыщенный цитатами из огромного количества автобиографий, биографий, мемуаров, документальных отчетов, своего рода посттекстом, который объединяет и актуализирует претексты в их многоголосии, при этом игнорируя их зависимость от одной или нескольких жанровых традиций. Семиотик Тодоров, которому мы обязаны трудами по семиотике и фантастической литературе, в случае с литературой лагерной сосредоточивается на signifi é, на означаемом этих текстов, не допуская, по-видимому, никакой другой постановки вопроса. Он читает такие тексты как документы, в которых зафиксированы суждения, наблюдения, способы поведения, как интерпретации пережитого, нередко сформулированные свидетелями/жертвами уже после периода переосмысления перенесенных страданий. Именно эти интерпретации включены в его антропологический очерк о выпадающих на долю человека крайностях.
Подобно Тодорову, Киш (ребенком и подростком, затем студентом) был современником политической системы, неумолимо преследовавшей своих критиков и диссидентов. В отличие от Тодорова, в детстве он стал свидетелем резни еврейского и сербского населения в Нови-Саде и депортаций евреев. Как и Тодоров, Киш был захвачен текстами об обеих лагерных реальностях. Комментируя свое обращение к теме ГУЛАГа, он — здесь его слова сопоставимы с тодоровскими — признает, что оно имеет моральную окраску: стыд за запоздалое осознание второй бесчеловечной системы XX века. В «Уроке анатомии» он пишет о создании «Гробницы для Бориса Давидовича»:
Быть современником двух репрессивных систем, двух кровавых исторических реальностей, двух лагерных систем уничтожения души и тела — и при этом показывать в своих книгах только одну из них (фашизм), тогда как другая (сталинизм) упускается из виду по принципу психологического слепого пятна, — эта навязчивая интеллектуальная идея, этот моральный и моралистический кошмар мучил меня в последнее время <...> Когда мысль эта обрела свой лирический вес, доросла до стыда и раскаяния, до признания, я принялся писать мои истории в некоей поэтической лихорадке, относительно легко и быстро, как бы избавляясь от кошмара, преисполняясь приятным (невзирая на тему) чувством. То было некое духовное облегчение, знакомое, быть может, лишь тяжким грешникам после исповеди в смертный час.
Как современник и писатель, пусть и не очевидец, Киш чувствует, что сбалансированное изображение обеих преступных систем — его ответственность. Своей критикой в адрес французских левых он резко обличает политико-идеологический обскурантизм, в плену которого многие, даже выдающиеся, их представители оставались непростительно долго. Благодаря литературоведческому образованию, познакомившему его, как и Тодорова, с теоретическими школами эпохи, формализмом и структурализмом, Киш всю жизнь занимался проблемами формы и разработал поэтологию собственного письма, которая проливает свет на генезис его текстов и обосновывает решения, принятые им в непростом поле между фактом и артефактом. В интервью, данных по большей части во Франции, он настаивает на том, что сборником рассказов «Гробница для Бориса Давидовича» пытался исполнить свой нравственный долг — уничтожить слепое пятно в господствующем политическом сознании. Это «послание» его текста было понято в полной мере.
В отличие от Тодорова, который его не упоминает (если не считать замечания о жене Карла Штайнера), Киш стремится не комментировать и интерпретировать, а «присваивать» тексты жертв. Иначе говоря, если Тодоров, пусть и включая в свою моральную аргументацию собственный голос, предоставляет голосам выживших драматически «звучать» в многочисленных выдержках из свидетельских текстов, Киш отказывается от полифонии и, как автор, оставляет за собой право подчинять эти тексты своей формальной воле. Настойчиво формулируемую в его работах поэтическую логику следует понимать как оправдание фикциональных «манипуляций», которым он подвергает документальную составляющую отчетов и мемуаров.
Рассказы выживших узников ГУЛАГа, сумевших найти язык для выстраданного в молчании, побуждали авторов из непострадавшего поколения отвечать собственными текстами, в которых ощущается попытка приобщиться к памяти уцелевших, сделать ее частью собственной памяти. Родившиеся позже, будучи заражены травмой старшего поколения, демонстрируют готовность обращаться к этому сохраненному мемуарными текстами «чужому» опыту в собственных рассказах и романах, причем фактография и вымысел могут сочетаться по-разному. Помимо Данило Киша, это касается авторов, которые обращаются к свидетельской литературе скорее косвенно, прибегая, подобно русскому автору Владимиру Сорокину, к приемам гиперболы, фантастики, остранения и вырабатывая повествовательные формы, отрывающиеся от реалистической подоплеки и переходящие в разные формы «постреализма». Однако ужас лагерных текстов продолжает жить и в них.
Здесь следует назвать и уже упомянутого Оливье Ролена, тем более что в своем документальном романе он придерживается совершенно иной изобразительной стратегии. В его книге предпринимается попытка свести вымысел к минимуму и встроить документы в повествовательный контекст, рождающий напряжение и вместе с тем шок. Перечисленные авторы (последний из упомянутых родился в 1947 году) в своих текстах продолжают писать историю, бремя которой, хотя она и не является частью их непосредственного опыта, как бы заставляет их ощущать себя ее наследниками. Эти литературные подходы выступают еще и ответами, реакциями, попытками интерпретации или отрицания таковой. В своем многообразии они предстают возможностями, открытыми поколению людей, которые, не испытав ничего подобного в действительности, чувствуют себя затронутыми чужим страданием как современники, наблюдатели, читатели и в собственных произведениях отвечают не только авторам этих текстов, но и тем, кому не суждено было высказаться.
Иной подход — я назвала его «психоисторическим» — прослеживается в работах Александра Эткинда. Родившийся в 1955 году в Ленинграде, он принадлежит к поколению тех, кто узнал о холокосте и ГУЛАГе в подростковом возрасте. Эткинд — культуролог и глубокий историк развития психоанализа в Советском Союзе. История семьи познакомила его как с опытом ГУЛАГа, так и с явлениями более позднего времени; так, в 1960-е годы политическому преследованию подвергся его дядя Ефим Эткинд, выдающийся ленинградский германист.
Представляется, что книга Эткинда знаменует собой начало причинно-следственного анализа занятий темой ГУЛАГа, которые ранее не велись или игнорировались. Следуя за разрабатываемыми в последние десятилетия философскими дискурсами о холокосте, Эткинд пытается выявить своеобразие мемориальной культуры в постсоветской России, причем в центре выстраиваемой им теории находится тесное взаимодействие между памятью и скорбью. Эткинд работает с психоаналитическими понятиями, в применении к российским условиям обретающими в его интерпретации поразительную остроту. Тезисы Эткинда еще предстоит осмыслить — и в России, где можно надеяться на рецепцию этой вышедшей в США книги, и на Западе, где усвоение его теоретического подхода могло бы заполнить пробелы в изучении преступлений сталинизма. Эткинд описывает практики скорби, но также их отсутствие и подавление, то, что он называет «кривым горем», warped mourning, эту мучительно искаженную, не приносящую облегчения скорбь, которая чинит препятствия самой себе. Уже во введении к своей книге Эткинд говорит о «миметическом горе», mimetic mourning, определяя его как
<...> повторяющуюся реакцию на потерю, которая символически воспроизводит саму потерю. В миметической работе памяти и воображения состоит сама сущность горя. Как это случилось? Где и когда? Почему все произошло именно так? Могло ли оно обернуться иначе? Мог ли я что-то сделать, чтобы предотвратить потерю? Скорбящий задает эти вопросы себе и другим, делая их и себя рассказчиками и свидетелями, которые обмениваются правдой или фантазиями о сущности и обстоятельствах утраты. Независимо от того, есть ли у скорбящего факты и свидетельства, говорящие о том, что произошло, или его воспоминания — плод одной фантазии, работа горя неизменно воспроизводит прошлое в воображении, тексте, общении или спектакле.
Таковы программные тезисы о горе/горевании, звучащие как некое правило. Когда оно нарушается, заключает Эткинд, процесс скорби тоже нарушается и «искривляется». Откуда берется этот сбой в выражении горя? Главной причиной Эткинд считает неведение о судьбе исчезнувших:
Многие умерли в тюрьмах и лагерях, но вести об их смерти могли дойти до родных и друзей лишь спустя годы или десятилетия. Приговор не имел предсказательной силы. Источник репрессий — государство — был и единственным источником информации. Патологическое состояние неопределенной потери возникало всякий раз, когда близкий человек исчезал по непонятным причинам; когда он мог оказаться жив и, возможно, мог еще вернуться; когда информации о нем не было или она была недостоверной.
Он настаивает на факте «выпадения» горя, помещая причины и следствия этого отсутствия в концептуальное поле, питаемое психоанализом и научной фантастикой. Не получившее выражения горе заставляет неоплаканных возвращаться в виде нежити, духов, призраков, жутких во фрейдовском смысле слова. Рассматривая демонологию, вампиризм, поэтику зомби в кинематографических и литературных произведениях постсоветского времени, Эткинд вычленяет ведущий мотив: пугающее возвращение вырвавшихся из забвения жертв, которые остались неоплаканными и теперь «мстят».
Его аргументация основывается на сравнении немецкого «осмысления» (Aufarbeitung) нацистских преступлений с аналогичным советским (а затем и постсоветским) процессом после 1956 года. При этом он опирается на положения работы Александра и Маргариты Митшерлих «Неспособность скорбеть» (Die Unfähigkeit zu trauern), в которой «коллективное поведение» немцев рассматривается с психофилософской точки зрения. Дистанция, отделяющая анализ супругов Митшерлих от осторожных попыток подобного анализа в постсоветской России 1990-х годов, внушает ему тревогу.
Рассуждая с российской точки зрения, Эткинд позволяет себе упустить из виду тот факт, что в Германии так называемое осмысление отнюдь не было фундаментальным и не завершено до сих пор, а нацистские преступники продолжили беспрепятственно занимать государственные должности.
Как бы то ни было, он подчеркивает одну особенность обращения советской России с виной за совершенные преступления, а именно признание этой вины на высшем уровне. Имеется в виду доклад Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году. Эткинд подчеркивает уникальность этой речи-поступка секретаря ЦК и, объясняя его решение выступить со столь неслыханным разоблачением, обращается к хрущевскому лейтмотиву возвращения террора:
Ничто не побуждало Хрущева признать свою вину, кроме памяти о терроре и страха перед его повторением. Этот автономный, добровольный характер хрущевских откровений делает их уникальными, даже беспрецедентными для истории насилия в XX веке.
Хрущев говорит изнутри круга возможных соучастников, добровольно проливая свет на историю вины. Его обличительный доклад с элементами «самообвинения» — не обвинительная речь наподобие той, которую произнес о представших перед Нюрнбергским трибуналом нацистских преступниках Роберт Х. Джексон. Речь Джексона, признанная выступлением выдающимся, потрясающим, притязала на то, чтобы заклеймить не только преступления немцев, но и преступления против человечества в целом.
Причастность Хрущева к преступлениям не подлежит сомнению. Применительно к собственной персоне он отнюдь не пытался избежать такого же культа личности, какой в его докладе выставлен главным злом, первопричиной преступных ошибок партийного руководства. Заметный у Эткинда воодушевленный акцент на своеобразии этого выступления нуждается в оговорке, поскольку в данном случае самообвинение относилось к преступлениям против жертв из числа членов партии. О массовом терроре, равно как и о существовании системы ГУЛАГа, умалчивается. «Заговор молчания» прервал лишь инициатор перестройки Горбачев; в 1987 году он разрешил выпустить снятый тремя годами ранее фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» — картину о тайных преступлениях власть имущих, в одном из персонажей которой без труда угадывается Сталин.
В докладе Хрущева подлинным врагом народа предстает Сталин, который, клеймя своих противников как «врагов народа», тем самым обрекал их на смерть. Начатый докладом 1956 года процесс десакрализации завершился лишь с символическим актом выноса в 1961 году из Мавзолея забальзамированного тела того, о ком теперь заговорили по-новому. Хотя перезахороненный у Кремлевской стены Сталин был идеологически обезврежен, система ГУЛАГа ликвидирована не была, пусть в 1954–1956 годах и последовали массовые освобождения (так называемые амнистии). Предпринятый Хрущевым нравственно-идеологический скачок не подкрепился никакими дальнейшими политическими решениями. Эткинд указывает на новый застой после короткой оттепели (выражение Ильи Эренбурга) — отрезка советской истории, ознаменованного амнистиями, допустимостью скорби, к которой призывала главным образом интеллигенция, и надеждой (вскоре обманутой) на облегчение условий содержания для тех, кто оставался в лагерях. Иными словами, не прекратились политически/идеологически мотивированные аресты, допросы, отправки в трудовые лагеря, публичные процессы. Случай ХодорковскогоПризнан в России «иностранным агентом» и носящее совершенно иной характер дело участниц группы Pussy Riot показывают, что базовая структура системы существенно не изменилась даже в постсоветское время. Великое молчание продолжается, запрет на распространение информации о преступлениях не снят в полной мере.
Подход Эткинда к факту ГУЛАГа — это еще и диагноз современности: книга вышла в 2013 году. Эткинд посетил места, где «Мемориал»Признан в России «нежелательной организацией»
при поддержке местных жителей пытался установить памятники или создать музеи, и осмотрел открытую в 1997 году активистами Ириной Флиге, Вениамином Иофе и волонтером Юрием Дмитриевым братскую могилу в урочище Сандармох (по названию некогда располагавшегося поблизости хутора Сандормох) неподалеку от Беломорканала. Таким образом, в отличие от повествовательного творчества Киша, которое оборвала в 1987 году его смерть, а также от предпринятого Тодоровым в 1988 году анализа лагерных текстов, в центре которого находятся отраженные в них события ГУЛАГа, книга Эткинда ставит вопрос о последствиях ГУЛАГа для постсоветской России, о препятствовании памяти и скорби.