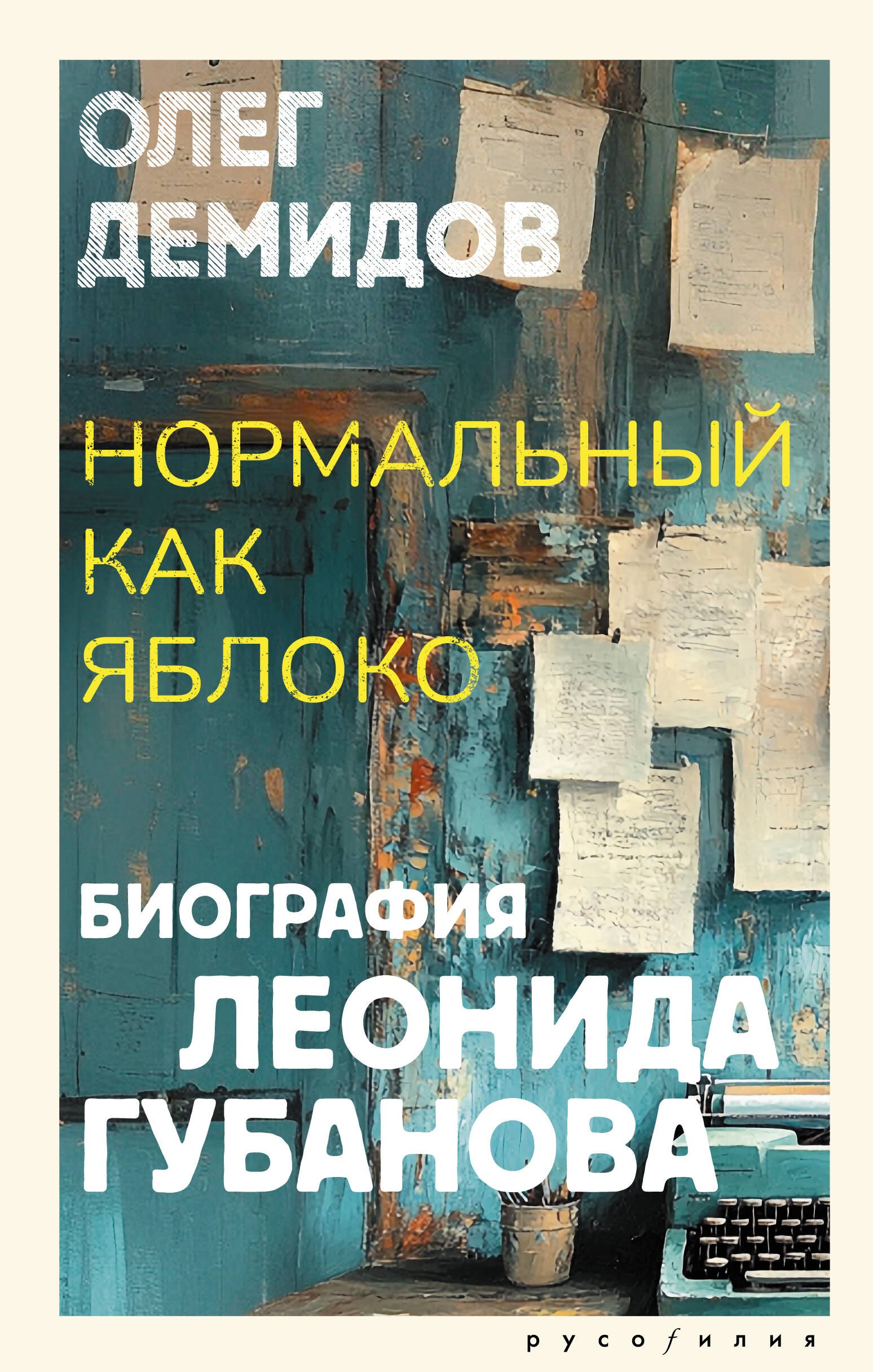«Икал за Вознесенским»
Из биографии Леонида Губанова
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Олег Демидов. Нормальный как яблоко. Биография Леонида Губанова: историческое исследование. М.: АСТ, 2025. Содержание
|
Тут важно услышать пассаж про московскую интеллигенцию. Она-то, как нам представляется, и создаст жуткий вектор для судьбы Губанова и его друзей-товарищей в целом.
Под конец года поэт дважды попадает в Кащенко. Сначала в октябре-ноябре. Сдают его туда родители в попытке исправить оболтуса и сделать нормальным советским гражданином. Благо в больнице поэт быстро знакомится с врачами и медсестрами. Он не буйный, покладистый, гениальный, в конце концов. И ему полагаются небольшие привилегии — например, позвонить разок-другой.
И Губанов набирает Алейникова: надо срочно ехать к нему домой, на «Аэропорт», и забрать амбарные тетради со стихами, иначе — мать выкинет их, и труды последних лет пропадут. Друг собирается за считаные минуты и из своей комнатки на «Автозаводской» спешит на другой конец зеленой ветки. Добирается вовремя, огорошивает родителей: Лёню собираются печатать в «Юности», надо взять стихи и помочь машинистке перепечатать их. Забирает всё, что находит, и увозит к себе.
Второй раз Губанов попадает в дурдом в декабре — и опять родители, уставшие от того, что их сын не учится, не работает, а по ночам воет стихи, — и как раз-таки пишет стихи о нелегкой судьбе:
Спрячу голову в два крыла,
Лебединую песнь докашляю,
Ты, поэзия, довела,
Донесла на руках до Кащенко!
Владимир Алейников приводит как будто сохранившееся письмо к Евтушенко (осень 1983 года):
«...осенью шестьдесят четвертого года, когда Лёню забрали в психиатрическую больницу прямо в разгаре его великолепного творческого периода, а вы выступали на вечере поэзии в зале Чайковского, я передал вам на сцену записку с известием о невеселом событии и просьбой навестить и по возможности выручить человека, и вы это сделали».
Губанов (опять-таки со слов Алейникова) рассказывал: «Евтушенко помог. Утром приехал в Кащенко. Поговорил с врачами. Поручился он за меня. И тогда меня отпустили. И теперь я дома. Пью чай. Евтушенко меня и домой на своей машине привез. И с матерью потолковал. Видишь, какой человек Женя! Он молодец. Он за меня горой!»
Опять Евтушенко выручил. Не в первый и не в последний раз.
Но что самое примечательное — Губанов в первые свои «приезды» в Кащенко чувствует себя замечательно. Не замечает ничего вокруг. Для него это не дурдом, а санаторий. Алейников рассказывал:
«...я поехал его навестить в больницу Кащенко. Привез ему продуктов немного — чтобы поел, пачку чаю индийского — чтобы пил в свое удовольствие, стопку бумаги и авторучку — чтобы стихи писал, маленький томик Хлебникова — самый распространенный тогда, из малой серии „Библиотеки поэта“, — чтобы читал. И Лёня был тогда парень хоть куда! Он выбежал ко мне такой оживлённый и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха».
Вильям Мейланд добавлял красок:
«...помню процессию людей разного возраста в больничных халатах, которые шли по снегу. Один из них шел босиком, держа валенки в руках. Я стоял с пакетом фруктов и ждал, когда можно будет поговорить с Лёнькой и тайно принять от него измятых листочков со стихами, которые он хранил в наволочке от подушки, как Велимир Хлебников».
Такое вольное, отчасти поэтическое, а отчасти и жизнетворческое обращение к Хлебникову свидетельствует об утонченном вкусе. Особенно в середине 1960-х годов. Это сегодня каждый студент филологического факультета или Литературного института презрительно кривит брови от любого упоминания футуристов — в пользу Эзры Паунда или метаметафористов, а полстолетия назад, при живых Алексее Кручёных, Давиде Бурлюке, Василиске Гнедове и т. д., трудно было пройти мимо советских будетлян.
Был, конечно, Андрей Вознесенский, взявший на себя роль главного наследника футуристов, но были и яркие представители неподцензурной поэзии, готовые оспорить поэта-эстрадника, — Виктор Соснора, Геннадий Айги, отчасти ленинградская филологическая школа, отчасти хеленукты и, конечно, Леонид Губанов. Однако для того, чтобы оспаривать, нужно быть хорошо знакомым с творчеством поэта, да и с ним самим.
Давайте и мы познакомимся — и поговорим о его влиянии.
<...>
Если быть честным (а как иначе?), надо признать, что абсолютное большинство молодых людей, седлающих Пегаса в начале 1960-х годов, писали не только под влиянием Пастернака, но и под влиянием Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. Так как мы имеем дело с экстравагантной и эпатажной группой смогистов (о ней речь еще впереди), стоит говорить преимущественно о влиянии второго.
Единственным, кто избежал (и это в буквальном смысле!) этого влияния, был Владимир Алейников. Его стихи тех лет — вереницы образов, суггестия, вольный синтаксис и что угодно еще, а вот (столь пагубной) привычки высекать искры из неточных рифм и желания пропускать через обруч своего воображения стаи диковинных образов — у него нет.
Об остальных смогистах такого не скажешь.
Юрий Кублановский, будучи еще мальчишкой, вычитывающим из рыбинских газет крохи поэзии, приехал в Москву, в Мосгорсправке добыл адрес поэта и без звонка и предупреждения пришел в гости. Его приняли, выслушали и благословили на творческий путь. Вознесенский не раз говорил, что таким образом он заглаживает свои «кармические» (учительско-ученические) долги перед Борисом Леонидовичем.
Алейников, только выбравшись из Кривого Рога в столицу, поступил точно так же, но, получив одобрение, просто стал избегать встреч, а заодно и влияния шестидесятника.
Владимир Батшев признавался, что, когда впервые пришел — наглый юнец и борзописец — в литературную студию «Знамя строителя», которой руководил Эдмунд Иодковский, его привели в чувство, указав, под чьим влиянием тот находится: «Я пришел уверенным в себе, в своих стихах, а меня быстро положили на лопатки, доказав, что стихи мои — подражание Вознесенскому (было такое — сегодня признаю)».
Многие отмечали влияние поэта-эстрадника уже после смерти Губанова. Говорили, что даже во внешнем облике у них есть нечто схожее, не говоря уже о стихах. Не стоит забывать и о губановском стихотворении «Во мне стоит зима семнадцатая...», посвященном старшему товарищу.
Михаил Айзенберг писал, что «[Губанов] — поэт талантливый, хочется сказать — стихийно талантливый, потому что все сильное, удачное в его вещах появлялось скорее вопреки авторской позе нового Есенина. Интонационно у него есть много общего с Вознесенским, но лирическая отвага иногда перекрывает даже это».
Эдуард Лимонов (их отношения мы еще будем разбирать отдельно!) в одной из своих последних книг ни с того ни с сего вспомнил о старом товарище — язвительно, с ядом, как он любил, и в стихах:
Свободно вращаясь в бульоне
Из звезд, происшествий и снов,
Я вспомнил сегодня о Лёне
Губанове. Был он каков...
Поэт, некрасивый мерзавец,
Он за Вознесенским икал,
Губастый, приземистый заяц,
Московского лета шакал...
Полина, Полина, Полине...
Стрелялся он с Родиной бы.
Горячий Челюскин на льдине,
Он плыл по теченью судьбы.
Кого еще помнит эпоха?
Да помнит кого-нибудь, чтоб
Казалось, что жили неплохо...
На фоне Москвы и сугроб...
«Икал за Вознесенским» — конечно, грубо. Но строчка «Московского лета шакал» как будто сглаживает это и, несмотря ни на что, возвеличивает Губанова.
Да и что уж говорить, в самом начале своего творческого пути он достаточно много заимствовал. Это не плохо и не хорошо. Так есть. Гению можно, ему все простительно.
Заимствовал ли что-то Вознесенский? Об этом много говорят, но как-то бездоказательно. Единственное, что попалось на глаза, — заимствование губановского образа из стихотворения «Моя свеча, ну как тебе горится?»: «Моя свеча, ну как тебе теряется? Не слезы это — вишни карие». Эстрадник спустя несколько лет выдал в «Саге» (входящей в «Юнону и Авось»): «Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни». Но, может, было что-то еще?
Мы решили расспросить Кублановского — как он видит эту ситуацию:
«Губанов что-то брал у Вознесенского, безусловно, так и было. Чего Вознесенскому подворовывать, если он почти не читал Лёню? Что-то по диагонали посмотрел и всё. Это был советский поэт, печатавшийся в газетах „Правда“ и „Известия“, написавший поэму „Лонжюмо“ о Ленине, написавший, мол, на минуту Лениным был Андрей Рублёв. Человек шел своим путем. И советская власть сумела его как-то адаптировать, потому что железный занавес уже не был так крепок, и нужно было что-то предъявлять Западу, каких-то свободолюбцев, которые у нас есть; но, разумеется, власть держала их на коротком поводке».
Губанова адаптировать было невозможно: не то поколение, не тот темперамент, не те амбиции.
Но давайте лучше посмотрим конкретные примеры заимствований.
Строчки из «Полины» — «Уходим в ночь от жен и денег / На полнолуние полотен» — растут из «Параболической баллады»:
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
Он дал кругаля через Яву с Суматрой!
Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Даже в фельетоне (!) «Лилитеский гелой» М. Виленский намекает на это: «Но мне все же думается, что автор в известной степени должен опираться на свой жизненный опыт, на собственные личные переживания, иначе как же... Вот, скажем, художник Гоген уехал на остров Таити и там создал свои знаменитые картины...»
Из другого стихотворения поэта-шестидесятника выходят многие и многие губановские строчки: «Я в Переделкино — я в соснах», «А я в загуле, я в Кусково» и т. д.:
Я в Шушенском. В лесу слоняюсь.
Такая глушь в лесах моих!
Я думаю, что гениальность
Переселяется в других.
Или вот еще пример из раннего Вознесенского:
Я сослан в себя,
я — Михайловское,
горят мои сосны смыкаются.
Для Губанова вообще важно не только размещение в ударной позиции этого «я» в необходимых лирических декорациях, но и проникновение в самую суть вещей, дабы изнутри понять их, стать их частью, а то и полностью стать этой вещью — и тогда стихотворение становится похожим на заговор: «Я — дар Божий, я, дай Боже, нацарапаю...», «я — тихий зверь, я на крестах, я чье-то маленькое „надо же“», «я — выстрел», «я скит, который во хмелю, я девок лапаю и бью», «я — инок, я — иконостас», «я — сегодня самый пропащий бурлак». «Я пастух, бреду с молоденькой дудочкой на карнавал», «я — звезда с вишневой дудкою», «Я — у собора под глазами, ты — под глазами у меня».
Если попадался диковинный образ, можно взять и его. Вот Вознесенский обронил «стакан крови» в «Охоте на зайца» (1963):
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови живой стакан!
А вот Губанов уже адаптирует этот образ:
Не пахнет мясом ли паленым
От наших ветреных романов?
И я за кровью Гумилёва
Иду с потресканным стаканом.
Или другой пример. Вознесенский в знаменитом стихотворении «Пожар в Архитектурном» рифмует:
Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.
А после Губанов в «Полине» использует ту же рифму:
Да! Нас опухших и подраненных,
Дымящих, терпких, как супы,
Вновь разминают на подрамниках
Незамалеванной судьбы.
Брал взаймы (да и так) Губанов не только строчки и образы, но и деньги. Всегда весело и придумывая новые истории. Но гению все простительно!
Юрий Зубков, близкий товарищ поэта, вспоминал:
«...однажды оказались в доме на улице Горького, Лёнька сказал, сейчас у нас будет много денег, здесь живет Андрей (Вознесенский), он позвонил, дверь открыли, я остался ждать на лестнице. Минут через пять Лёнька вышел с тридцатью рублями. Вот потратить эти тридцать рублей нужно было до конца, оставить хоть рубль было неприлично и даже непристойно. Так что хочешь не хочешь, нужно было пировать».
Подобная гульба могла продолжаться не один день. Шутка ли — прогуляться по центру Москвы, а заодно пройтись по друзьям, знакомым, читателям и обожателям да занять трешку или более? Плевое дело.
(Сегодня это вообще не проблема. Держите лайфхак, юные и не очень поэты: во-первых, крафтовые бары и винотеки проводят бесплатные дегустации — ежедневно, — знай только, где искать; а во-вторых, всегда можно попросить все тех же друзей и т. п. занять сотку — дистанционно, хоть из другого города, на карту, — и гуляй, покуда хватит сил.)
Губанов это умел, любил и практиковал.
Приходилось выдумывать новые и новые истории для получения денег, но фантазия била ключом — не заткнуть.
Но эта же денежная тема и разводила поэтов. Сытый голодного не разумеет. Важно и то, что Вознесенский, может, не до конца это понимал. Человек добрый и обходительный, он мог многое себе позволить. Любил шиковать. Иногда, видимо, забывался.
Кублановский дал очень точную ситуацию, показывающую «забывчивость» своего старшего товарища:
«...когда хоронили Анну Андреевну Ахматову, гроб стоял в морге больницы Склифосовского в течение часа, и там впервые я увидел пианистку Марию Юдину, Надежду Мандельштам, последние осколки старой великой культуры. Был март 66-го. Юдина была в китайском плаще и в кедах с палкой, седоволосая. Надежда Мандельштам в каком-то свитере и шапочке. Они были бедные люди! А пришел Евтушенко, пришел Вознесенский — парад дубленок, парад мохеровых шарфов и пыжиковых шапок».
Но вернемся к Губанову и их отношениям с эстрадником. Принципиальное отличие одного поэта от другого — в аудитории и в корректировке голоса под нее.
У первого — это московская молодежь, которой дай только волю — начнут смеяться, орать, зубоскалить; пока читаешь, будут разливать очередную бутылку, громко передвигаться, нарушать поэтическую мистерию замкнутого пространства — кухоньки или художественной мастерской; с такими надо работать по-чеховски: раз — и в морду, и обязательно неожиданно, чтоб огорошить как следует.
У второго — иные читатели: тихая, икающая от громких слов интеллигенция маленьких советских научных городков; вот они будут слушать внимательно, потому что живут так — затаив дыхание, — пока ломают глаза над рабочими формулами, пока едут в трамвае, пока целуют любимых, пока сидят на стадионе и слушают поэта; отсюда и авангардизм Вознесенского, который на поверку оказывается разболтанной и расшатанной традицией или, как иной раз говорят, поэтическим конформизмом.