Гёте и делопроизводство
Отрывок из книги Эрнста Роберта Курциуса «Критические эссе по европейской литературе»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Эрнст Роберт Курциус. Критические эссе по европейской литературе. М.: Издательский Дом ЯСК, 2024. Содержание
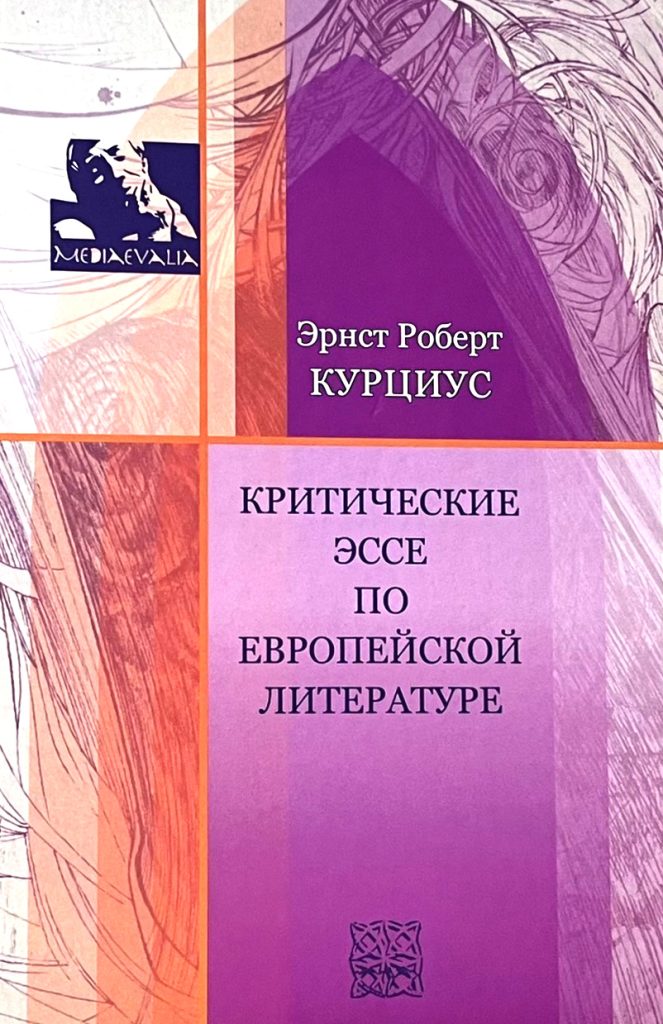 Иоганн Георг Циммерман (1728–1795) из аргауского Бругга славился по всей Европе, — и как автор нравственно-философских сочинений («Об одиночестве», «О национальной гордости»), и как искусный врач (в частности, он сопровождал Фридриха Великого в его последней болезни); на своем жизненном пути он несколько раз пересекался с Гёте. В мае 1775 года он показывал поэту несколько силуэтов, в том числе — госпожи фон Штейн. Гёте сделал такую подпись: «Славное было бы зрелище — увидеть, как мир отражается в этой душе. Она видит мир таким, как он есть, но только через посредство любви». В сентябре того же года Циммерман гостил в родительском доме Гёте, о чем упоминается в «Поэзии и правде». В те дни он справлялся у поэта о «Фаусте», появления которого тогда уже очень ждали. Циммерману довелось даже увидеть поэму — правда, в довольно необычном виде: «Goethe apporta un sac rempli de petits chiffons de papier. Il le vida sur la table et dit: voilà mon Faust!» [Гёте принес мешок, полный клочков бумаги. Вывалив все это на стол, он сказал: вот и мой Фауст!]. Этот рассказ — «une anecdote que je tiens du célèbre Zimmermann» [забавная история, которую я узнал от знаменитого Циммермана] — приведен у Августа Вильгельма Шлегеля в письме Абрахаму Хейварду (1801–1884) от 31 декабря 1832 года; в 1833 году Хейвард перевел «Фауста», но широкая известность к нему пришла позже, и связана она была с трактатом «The Art of Dining» (1858). О событии 1775 года Шлегель писал через более чем пятьдесят лет: очевидно, что и рассказчик, и сам свидетель усматривали в этой истории нечто необыкновенное. Нечасто поэты держат свои наброски в мешке.
Иоганн Георг Циммерман (1728–1795) из аргауского Бругга славился по всей Европе, — и как автор нравственно-философских сочинений («Об одиночестве», «О национальной гордости»), и как искусный врач (в частности, он сопровождал Фридриха Великого в его последней болезни); на своем жизненном пути он несколько раз пересекался с Гёте. В мае 1775 года он показывал поэту несколько силуэтов, в том числе — госпожи фон Штейн. Гёте сделал такую подпись: «Славное было бы зрелище — увидеть, как мир отражается в этой душе. Она видит мир таким, как он есть, но только через посредство любви». В сентябре того же года Циммерман гостил в родительском доме Гёте, о чем упоминается в «Поэзии и правде». В те дни он справлялся у поэта о «Фаусте», появления которого тогда уже очень ждали. Циммерману довелось даже увидеть поэму — правда, в довольно необычном виде: «Goethe apporta un sac rempli de petits chiffons de papier. Il le vida sur la table et dit: voilà mon Faust!» [Гёте принес мешок, полный клочков бумаги. Вывалив все это на стол, он сказал: вот и мой Фауст!]. Этот рассказ — «une anecdote que je tiens du célèbre Zimmermann» [забавная история, которую я узнал от знаменитого Циммермана] — приведен у Августа Вильгельма Шлегеля в письме Абрахаму Хейварду (1801–1884) от 31 декабря 1832 года; в 1833 году Хейвард перевел «Фауста», но широкая известность к нему пришла позже, и связана она была с трактатом «The Art of Dining» (1858). О событии 1775 года Шлегель писал через более чем пятьдесят лет: очевидно, что и рассказчик, и сам свидетель усматривали в этой истории нечто необыкновенное. Нечасто поэты держат свои наброски в мешке.
«Мешок» этот, впрочем, был, судя по всему, не холстяным, а бумажным. В Южной Германии мешком называют карман, а на торговых предприятиях большие конверты и теперь еще, в свою очередь, зовутся карманами. Мы точно знаем, что Гёте всю жизнь упорядочивал свои бумаги, пользуясь такими конвертами. Так, 10 января 1798 года он писал Шиллеру: «Тем временем, в эту пору, бесцветную и безрадостную, я снова взялся за „Цвета“ и разобрал свои бумаги, дабы понять, что к этому моменту уже сделано. Я вел записи с самого начала: так сохранились и мои ошибки, и верные мои выводы, и — самое главное — все пробы, опыты, догадки; теперь я упорядочил всю эту кипу — заказал бумажные пакеты, разделил их по рубрикам и всё по ним разложил». Иногда эти пакеты именуются еще капсулами. «Просматриваю капсулы. Старые и новые рукописи» (из дневника, запись от 5 марта 1818 года). Кройтер в письме графине фон Хопфгартен сообщает: «Он никогда не разбрасывает отдельные листы; если листок пока не нужен, то он сложит капсулу из отреза бумаги, надпишет ее, и лишь тогда все станет (неразборчиво)»*Письмо Кройтера (от 26 января 1821 года) опубликовал Артур Польмер во второй части «Jahrbuch der Sammlung Kippenberg»; после оно было перепечатано в «Inselschiff» (четвертый год издания, второй выпуск; Пасха 1923 года)..
Помимо пакетов и капсул, Гёте пользовался еще «тектурами»; это, судя по всему, папки для бумаг. Приведу несколько дневниковых примеров: «Раскладываю прежние экспедиции по тектурам» (25 мая 1816 года); «разделил заметки по разным тектурам» (9 июля 1816 года); «подготовил несколько тектур о нидерландских мастерах» (12 октября 1818 года); «в тектурах уже все бумаги без исключения» (3 сентября 1819 года); «сейчас, прежде всего, нужно определить следующие рубрики в разделах об искусстве и древности, а затем подготовить тектуры» (1 ноября 1823 года); «тектуры на 1826 год разложены» (14 января 1826); «план „Годов странствий“; еще — тектуры для отдельных глав» (23 января 1826 года); «задал рубрики для нескольких тектур, попутно рассмотрев их содержание» (23 июля 1828 года); «продолжаю вычищать и комплектовать тектуры по ботанике» (30 августа 1828 года); «о главном позаботился: временные тектуры на этот год заготовлены» (1 января 1830 года); «по делам великой герцогини начал сшивать бумаги, которые прежде лежали в тектурах» (4 января 1830 года).
Гёте, по своему характеру, постоянно занимался сбором и упорядочиванием бумаг. Первое тому свидетельство — это «Эфемериды», собрание конспектов и выписок, начатое в январе 1770 года во Франкфурте и затем продолженное в Страсбурге. Когда Гёте изучал право, когда он работал поверенным, когда, наконец, он занялся делами государственного значения (а «надзор за непосредственными учреждениями науки и искусства» оставался обязанностью Гёте до самой его смерти), все это время (более шестидесяти лет) ему приходилось ежедневно работать с документами. На эту сторону в жизни Гёте мы впервые смогли взглянуть повнимательнее благодаря новой публикации, подготовленной в государственном архиве Веймара: «Goethes amtliche Schriften» под редакцией В. Флака (том I — 1950). В этой книге представлены служебные документы Тайного совета с 1776 по 1786 год. За эти десять лет коллегия заседала около семисот пятидесяти раз. По ходу и по итогам составлялись тысячи бумажных дел во всевозможных формах, как то: рескрипты, вотумы, протоколы, приложения, записки, программы, канцелярские предписания, указания конципиентам, распоряжения, декреты. Все это — ценный источник культурно-исторических сведений, полный к тому же своеобразного очарования. Нам открываются цеховые споры между каменщиками и кровельщиками, мы узнаем о поставках тканей на придворные ливреи, о распределении профессорских должностей в Йенском университете, о превышениях полномочий со стороны прусских военных вербовщиков, о денежных займах из Бернского кантона; всё перед нашими глазами — приобретение библиотеки, борьба с воробьиным мором, меры против земляческих объединений. Вот некий Линд[н]ер, всадник из конной охраны, назвал болванами еврейских торговцев на эрфуртском рынке; евреи тоже за словом не постояли и были, в конечном итоге, арестованы. Как разрешить это дело? Члены Тайного совета голосуют в письменном виде. Гёте высказывается следующим образом: «Поскольку евреи отвечали ругательствами на ругательства, то арест, который с них уже невозможно снять, представляется достаточным наказанием, и, meo voto [по моему мнению], взятый штраф следует им возместить. Линднера, с другой стороны, следует поместить под арест на тот же срок, что и евреев; он же, как autor rixae [зачинщик ссоры], должен покрыть все понесенные расходы, а также выплатить евреям компенсацию». В другом деле Гёте предлагал отправить отчисленного студента Нольтена на прусскую военную службу в обмен на какого-нибудь тамошнего юношу: «так мы с пользой избавимся от этого смутьяна». Еще случай: мушкетер Шмидт «очреватил» девушку; из его жалования намеревались высчитывать алиментные выплаты. При участии Гёте это предложение отклонили. Закупки замшевых штанов для гусарского корпуса проходили по плану, составленному Гёте собственноручно. Парикмахер Бессер из Айзенаха пожелал взять себе двух учеников; на это Совет запрашивает герцогский рескрипт. То же самое — когда студента, не устоявшего перед выпивкой, осудили на восемь дней в исправительном доме. Предпринятая было попытка воспрепятствовать ввозу зернового кофе («по причине непомерного в наших землях кофепития») в итоге провалилась: Саксонское курфюршество в этом предприятии участвовать отказалось. Одна картина постоянно сменяется другой. Из подшитых документов проступают самые разные обстоятельства, личности, судьбы; все они так или иначе касались Гёте, занимали его разум и душу. В Тайном совете молодой юрист учился прилагать свои познания к ежедневным задачам государственного управления; там Гёте отрабатывал особую технику ведения дел — технику, которая навсегда осталась с ним, превратившись в неизменную черту характера. В 1785 году светлейший герцог предложил упростить канцелярский стиль; Гёте по этому поводу представил весьма характерные возражения: «Мне не известно основание к тому, чтобы переменить стиль наших экспедиций, и посему я не имею возможности выносить на этот счет какое бы то ни было определенное суждение. В целом же, на мой взгляд, такая перемена скорее вредна, чем полезна, поскольку ныне принятые формы, на первый взгляд произвольные, увязаны с великим множеством условий и обстоятельств: все это будет пресечено и обречено на поиски новых форм. Сбережению времени, как видно по настоящему голосованию, это также не послужит. Канцелярия имеет дело с нематериальным, а тому, кто работает с формами и только их и наблюдает, без педантизма — хотя бы доли его — не обойтись. Убери педантизм из гарнизонной службы, и что вообще от нее останется. Пусть даже украшенный заголовок со словами „Милостью божьей...“ сохранится как чистое упражнение во фрактурном и канцелярском письме, он всё равно при этом не обессмыслится; великий правитель не может без церемоний. Так часто приходится ему решать судьбы людей, что поспешность в вынесении экспедиций здесь не пристала; вера в рассудительность наказов должна выситься непоколебимо. Порядок не устоит без соизмерения скоростей. Торопливость — противница порядка, равно как и промедление». Здесь нужно добавить, что надпись «Милостью божьей Карл Август», которой предварялись утвержденные рескрипты, — это было произведение каллиграфического искусства, требовавшее многих лет практики. Заглавная «V» в торжественной фрактуре выступает влево из целого лабиринта сплетенных завитков*См. факсимиле в конце упомянутого издания.: от жирных штрихов, пышных и округлых, изгиб переходит к тонким начертаниям, изящным и витым; очертания этой шестистрочной литеры сходны с виноградной гроздью, сплетенной из волют и восьмерок. С правого края конечная «t» из имени Августа тоже утопает в завитках, отраженных в зеркальной симметрии. Две эти фигуры соединяются и увенчиваются целой сетью далеко выступающих линий: канцелярским пером как будто con bravura выводятся колоратурные арии. Средневековая роспись инициалов преобразовалась в последний раз! «Рассудительность» владетельных «наказов» зримо воплощалась на письме. Соображения, которые Гёте формулирует вокруг этой фигурно-графической формулы «Милостью божьей...» на удивление показательны; здесь и его нелюбовь к переменам, и его отношение к установленным формам, на первый взгляд произвольным, но в действительности примыкающим к разного рода жизненным связям; здесь и «соизмерение скоростей» — своего рода festina lente! Среди формул и стандартов избирательной курии Гёте как консилиарий чувствовал себя на своем месте. В нем как будто оживало родовое наследие. Разве имперский советник Иоганн Каспар Гёте не стал, волей обстоятельств, распорядителем хозяйственного толка? Дед Гёте, Текстор, со своей стороны, на протяжении почти четверти века служил городским бургомистром; среди его потомков — и старший секретарь суда, и синдик; Гёте описывает, как старик перебирал цветочные луковицы и окулировал розы: «...в саду он работал по такому же порядку, с такой же старательностью, как и на своей городской службе; перед тем, как оставить пост в конце дня, он обязательно вносил в журнал всех сегодняшних заявителей, чтобы назавтра устроить эти дела, и прочитывал все документы».
В первые Веймарские годы Гёте явственно ощущал разлом между жизнью и бумагой: «Среди этих людей я живу, с ними я говорю и их слушаю. Есть огромная разница между тем, что случилось на месте, и тем, что уже прошло через экспедиционные фильтры» (из письма госпоже фон Штейн, 4 марта 1779 года). В более поздние годы таких заявлений у Гёте уже не найти. Всего через шесть лет — при голосовании 1785 года — у него уже в полной мере проявился тот степенный формализм, которым до последних дней прониклось все его существо. Из административных дел Гёте извлек модель и технику для организации своего собственного бытия. В том, как Гёте вел и хранил разного рода документы, во многом отражается весь его образ жизни, во многом ощущается сама атмосфера, его окружавшая.
Любой вопрос, проходящий через административные каналы, распадается на несколько стадий. Все начинается со «схемы». Затем следует «план», постепенно дополняемый. Окончательную «редакцию» переписывают набело. Исполнение письменных распоряжений называется «экспедицией». Входящие и исходящие бумаги вносятся в реестр. Все жизненные происшествия распределяются по обширной сети «рубрик». Если принимать все это в расчет, то множество дневниковых заметок, связанных с делопроизводством, наполняются новой жизнью: «Расставил различные бумаги по рубрикам и наметил схемы» (15 августа 1821 года); «схема по Триру» (23 января 1822 года); «редактировал статью о Трире» (24 января 1822 года). — «Несколько планов по письмам, беловых копий и т. п. Всё подшил и разложил по-другому. Набросал схемы для агенды. С Оттилией съездили к Бельведеру» (2 июня 1828 года). — «Дополнил планы будущих писем и подготовил экспедицию». — «Приготовил новые конверты для входящих и исходящих писем» (30 декабря 1816 года). Каждая такая фраза вписана в определенный контекст. Так, например, в декабре 1809 года в Веймаре останавливался Вильгельм Гримм; ему довелось побеседовать с Гёте о древнегерманской литературе. Якоб просил брата прислать из Веймарской библиотеки несколько рукописей с миннезангами. Вот что Вильгельм сообщает ему в письме от 25 декабря 1809 года: «Я сходил к Гёте, и он наконец-то прояснил ситуацию с веймарскими рукописями. Ответ вполне в его духе: всё нужно организовать формально и официально. Тебе, как библиотекарю, придется написать ему от своего имени и по форме запросить две рукописи, попутно обращаясь и к „другим господам“ (т. е. по имени их называть не нужно), имеющим власть над этим делом; тогда Гёте с ними поговорит, и рукописи тебе пришлют по почте». Их действительно отправили Якобу Гримму 19 января 1810 года. В старости Гёте ко всему подходил «по чину» и как положено: это уже вошло в привычку. В его дневнике можно найти такие записи: «экспедиции, регистрации, мероприятия, проекты»; «рекапитулировал и нотировал всё, что пойдет на экспедицию»; «юстировал и запечатывал экспедиции». «Юстировал и сшил все бумаги по Реннеру для завтрашней экспедиции» (29 октября 1816 года). «Много надиктовал. Всё подготовил для следующей отправки» (11 августа 1826 года). «Сдвинул с места застопорившиеся дела. Следующие экспедиции частью составлены в планах, частью переписаны начисто» (10 июня 1827 года). Пометки и замечания в документах назывались нотациями. «Редакция и переписка нотаций за прошлый период» (6 сентября 1814, Франкфурт). «Нотации и аллегации из Лукреция» (22 февраля 1821). «Собрал и привел в порядок несколько нотаций» (9 мая 1821 года). «Нотации переписаны начисто» (5 августа 1822 года). «С грифельной доски выписал предыдущие пометки [Notamina]» (19 июня 1822 года).
С началом года в документах требовался особый порядок. «Вместе с Йоном просматривали регистрационные листы и протоколы; всё подшито и пронумеровано» (7 января 1823). «Прошелся по первоочередным письмам и подписным документам» (5 января 1825 года). «Все еще занят делами неотложными. Составил план работ. Документы подшил, пронумеровал; самое необходимое в них пометил» (1 января 1827 года). Готовые, приведенные в порядок документы «репонировались» (откладывались). Лаконичная запись от 25 июля 1819 года гласит: «Многое репонировал». «Навел порядок. Репонировал оригиналы писем (Шиллера и своих) от 1797, 98 и 99-го. Они лежали под 1800 годом, среди бумаг для чистовой переписи» (26 июня 1824 года). «Организовал репозиторий текущих дел» (17 ноября 1816 года). «В приемной установили репозиторий» (2 июня 1825 года). «Взялся разбирать шкаф с разного рода личными документами и бумагами». «Составил предварительную опись всего, что было в заднем шкафу. Пронумеровал выдвижные ящики. Репонировал Оппенгеймский собор в коробку над собранием гравюр. Шлезингер из Берлина обещает экземпляр „Conversations- und Kunstblatt“. Еще раз пролистал последние письма из Англии и обдумал, что с ними делать. Снова взялся за письмо Гленка, директора солеварни» (23 мая 1828 года).
Какими забавными и старомодными кажутся эти забористые латинские слова в канцелярском языке! Агенда и эксгибенда, регистранды и пропоненды, тектуры и репозитории шагают целыми колоннами. Но особое удовольствие я нахожу в «локуламентах». Это слово — экземпляр редкой роскоши; могу привести только один пример его использования. У Сенеки и Плиния оно означает книжную полку, а у Гёте — содержимое канцелярского шкафа. В письме Цельтеру от 5 октября 1831 года этот технический термин из обихода регистраторов возвышается до метафоры и обозначает высочайшую область духовного. Гёте «просмотрел» книгу «Fragments de Géologie» А. фон Гумбольдта и всячески хвалит автора за его «умение уговаривать». «Мало кто способен убеждаться; почти все, с другой стороны, позволяют себя уговорить. Потому статьи, представленные в этой книге, суть в действительности речи, с большим изяществом произнесенные; под конец уже с легкостью представляешь себе то, что поначалу казалось немыслимым. Тот факт, что Гималайские горы из земли возвысились к небу на 250 000 футов и по-прежнему, недвижные и величественные, стоят так, будто ничего не случилось, — это за пределами моего понимания, это образ из области сумрачной, оттуда, где веет пресуществление; мой мозг, чтобы он вмещал такие чудеса, пришлось бы полностью реорганизовать — а такого мне не хочется. Есть, конечно, умы, в которых подобные предметы веры как будто хранятся в отдельных ящиках, наравне с абсолютно здравыми локуламентами; мне это непонятно, хотя я сталкиваюсь с таким ежедневно. Но разве всё должно быть понятно? Повторяю: наш завоеватель мира — это, пожалуй, величайший оратор».
Локуламенты гётевского сознания отражаются еще и в подразделении всех бумаг на рубрики («Рубрицировал документы и подшил их»). В дневниках упоминаются следующие рубрики: Publica — Privata — Domestica — Religiosa — Oeconomica — Politica — Botanica — Physica — Optica — Chromatica — Osteologica — Graeca et Latina — Orientalia — Sinica — Poetica et Rhetorica — Grammatica — Theatralia — Francofurtensia — Coloniensia — Vinariensia — Gallica — Romana — Novissima — Varia [Публичное — Личное — Домашнее — Религиозное — Экономика — Политика — Ботаника — Физика — Оптика — Хроматика — Остеология — Греческое и латинское — Востоковедение — Синология — Поэтика и риторика — Грамматика — Театр — Франкфуртское — Кёльнское — Веймарское — Французское — Римское — Новейшее — Разное].
Временно отложенные стихотворения Гёте называл паралипоменами. В дневниковых записях от 2 и 3 мая 1822 года упоминается сортировка и упорядочивание паралипомен. Что конкретно имеется в виду, ясно по «Справочнику гётевского репозитория», составленному Кройтером. Там, на стр. 18 (Tagebücher VIII, 371 и далее), читаем:
Паралипомены. Три капсулы ин-кварто, наклонного формата.
а. По случаю. С пояснениями относительно их истории.
б. Лирические;
политические;
о боге и мире;
для «Фауста»;
эротические;
приапеи;
юношеские;
экспромтные станцы на «Колокол» Шиллера;
«Прометей» (два варианта);
«Навсикая» (начало).
в. Инвективы;
моралии;
общее.
Обо всем вести записи — к концу XVIII века это стало насущной потребностью для Гёте. Это явственно прослеживается и в тех письмах, которые Гёте адресовал Шиллеру во время своей третьей поездки в Швейцарию: «Теперь я сам стал внимательным путешественником и понял, почему в дорожных заметках часто встречается столько ошибок. Как к вопросу ни подойди, в дороге всегда видишь мир только с одного бока, и суждения выносишь столь же односторонние; сторона эта, правда, очень живая, потому и суждение в каком-то смысле оказывается справедливым. Я решил завести специальные папки, в которые вношу все общедоступные издания, которые попадаются мне на глаза, — газеты, еженедельники, фрагменты проповедей, административные постановления, театральные программки, прейскуранты; туда же я помещаю свои заметки о том, что я видел и что приметил — вместе с мелькнувшими суждениями; затем я беседую об этих впечатлениях в обществе и высказываю там свое мнение, дабы сразу же оценить, хорошо ли я информирован и насколько мои суждения совпадают с суждениями людей знающих. После этого я, опять же, приобщаю к делу все новое, что удалось изведать и почерпнуть: так накапливается материал, который, я полагаю, и в будущем будет мне интересен, ведь в нем есть и внешняя, и внутренняя история. Если, — учитывая мои предыдущие знания и интеллектуальный опыт, — я достаточно долго сохраню к этому упражнению интерес, то объем сведений накопится просто огромный» (22 августа 1797 года). Позднее: «Через несколько дней мы поедем к Фирвальдштетскому озеру. Когда мы приблизимся, мне нужно будет еще раз внимательно оглядеть те великолепные картины природы, которыми полнится тамошняя округа; мой отчет будет неполон без рубрики, посвященной этим невероятным утесам. Я уже собрал две приличные папки — там записано или подшито все, что я испытал, все, что со мной случилось: материал исключительно пестрый...» (25 сентября 1797 года). Утесы становятся рубрикой, которую нужно заполнить. Природа помещается ad acta.
Поэзия тоже сближается с административным управлением. В одной из дневниковых записей видим: «Редактировал стихотворения и музейную документацию» (15 февраля 1815 года). Встречаются и другие чисто деловые замечания на эту тему: «Документы 1814 года по делам его светлости Орлова-Денисова, дабы назначить ему воспитателя»; «Документы 1814 года по вопросам полевой кухни»; «учреждение художественного института и состояние дел по его части, in forma patenti» (20 сентября 1816 года); «завершена чистовая перепись решений по „Изиде“»; «Распоряжение для господина Гётце, инспектора дорожного строительства в Йене; Приказ о наблюдении за садовым участком, выставленным на публичные торги» (8 октября 1816).
В 1828 году, 14 июня, великий герцог Карл Август, возвращаясь домой из Берлина, умер в деревне Градиц, что в Торгау. Гёте часто составлял для него официальные доклады («Реляции ко светлейшему князю»). Сведения о смерти правителя Гёте тоже принимал в форме доклада: «Подготовил множество разных экспедиций. Господин канцлер сообщил о новых вставках в некролог. В полдень — доктор Эккерман. Сын обедал не дома. Выставил несколько старых рисунков, недавно найденных. К вечеру — профессор Ример. Чуть раньше — майор фон Гермар: он изложил в статье все обстоятельства, при которых скончался наш милосердный владетель; я эту статью вычитал» (4 июля 1828 года). Когда скульптор Давид д’Анже пожелал изобразить Гёте, желание его не исполнилось тотчас, а было сначала «принято в рассмотрение»: «Скульптор Давид из Парижа отрекомендовался, предоставил рекомендательные письма, принес с собой несколько тетрадей и альбомов; заявил о желании изготовить мой бюст, что было принято ad referendum» (23 августа 1820 года). К тому времени Гёте уже давно оставил государственную службу. Службой стало само его существование. Когда у него уже не было сил на сторонние дела, Гёте находил удовольствие в этом бытовом служении с его установленным ходом: «Встал рано. Вскоре снова лег. Ждал надворного советника Фогеля. Еще одна тщетная попытка подняться. Работал, однако, беспрерывно. Писал, диктовал, отправлял на переписку; к вечеру все запланированное привел к удовлетворительному завершению» (22 июня 1830).
Кройтер, в вышеупомянутом письме 1821 года, наглядно живописует канцелярские привычки старого Гёте: «Раз уж я коснулся этих похвальных черт в характере Гёте, то к этому нужно еще кое-что добавить: он во всё старается привнести изящество, аккуратность и внешнюю красоту, даже в дела наималые; люди в его окружении полны лучших намерений, однако должного содействия ему не оказывают, так что Гёте, дабы делалось все на его манер, приходится многое брать в свои руки. Так, например, в письмах (что в важных, что в повседневных) мне всегда приходится со всех краев оставлять красивые поля; еще я неизменно удостаиваюсь похвалы, если удастся мне составить письмо таким образом, чтобы все его стороны были заполнены равномерно. В руках Гёте всё становится произведением искусства. Он один умеет так изящно сворачивать письма косточкой-гладилкой; чернильницу ему нельзя ставить полную, а перо он окунает очень осторожно, чтобы ни капельки не пролить; просушивать исписанную бумагу песком настрого запрещено: лучше он постоит с рукописями у печи. Письма он запечатывает с большим искусством и любит, чтобы сложенный лист идеально входил в конверт: для этого переплетчику приходится резать бумагу с особой аккуратностью. У него есть запас маленьких листочков в квадратный дюйм; их он кладет на каждое письмо в то место, куда прикладывается печать — чтобы сургуч с печати, если конверт вдруг окажется узковат, не приклеился к исписанному листу. Все это он делает очень ловко, спокойно, с достоинством, так что и здесь я им восхищаюсь. У него есть привычка бурчать про себя какие-нибудь отдельные слова, так что в таких случаях я часто слышу что-нибудь вроде: „Так, тихо! — Так, осторожно!“». Дневниковые записи подтверждают особое внимание Гёте к «изяществу и аккуратности». От 30 сентября 1829 года: «Сегодня утром приходил один востоковед и показывал китайскую рукопись. Он будто бы считал название: „История знаменитых полководцев“. Я упрекнул его в том, что он просто завернул рукопись в бумагу вместо того, чтобы аккуратно хранить ее под картонной обложкой». От 23 марта 1830 года: «Господину тайному советнику Гельбигу: напоминание о плохо упакованных картинах из Мюнхена». От 13 марта 1831: «Я, насколько позволяли обстоятельства, постарался соблюсти порядок. Под печать на письме я заправил подложку: не раз видел, как красивый переплет книги безнадежно портили неосторожным нанесением горячей печати или повреждали точно так же посвятительный экземпляр. То же самое случается и с главными строками писем — иногда центральное слово во всем тексте заранее делается нечитаемым. Легкомысленная людская торопливость просто не знает границ». На нас вновь повеяло «соизмерением скоростей», о котором Гёте писал в 1785 году.
Запечатывать можно и что-то нежелательное, чтобы убрать его с глаз долой. В письме Цельтеру от 29 апреля 1830 году можно найти такую фразу: «Я решился (причем быстро и резко): окончательно перестал читать газеты». О таком, 6 марта 1830 года, рассказывал и Соре: «Goethe va ainsi par lubies. Après avoir lu par plusieurs mois de suite le Globe et le Tem[p]s avec la plus grande assiduité, il les a quittés tous deux à la fois depuis environ 15 jours et il accumule les numéros sans les ouvrir; il va meme jusqu’à les cacheter pour bien montrer qu’il ne les lit pas...» [У Гёте новая причуда. На протяжении нескольких месяцев подряд он с величайшим усердием читал «Le Globe» и «Le Temps», а затем, примерно 15 дней назад, вдруг бросил оба издания и теперь копит новые выпуски, даже их не открывая; более того — он их запечатывает, дабы показать, что действительно этого не читает...] А вот что сам Гёте писал канцлеру фон Мюллеру 24 апреля 1830 года: «Чтобы не стать скучным, нужно постоянно меняться, обновляться, омолаживаться. Недавно какой-то сверх-Гегель из Берлина*По Бидерману, это, скорее всего, был Г. Ф. В. Гинрикс. прислал мне свои философские сочинения; это как гремучая змея: хочется бежать от нее подальше, но в то же время и подглядеть интересно. Этот тип изрядно утомляет; он без меры углубляется в такие проблемы, о которых восемьдесят лет назад я знал ровно столько же, как сегодня, в которых никто из нас не разбирается и не понимает. В общем, я запечатал эти книги, чтобы больше уже не тянуло их читать». Задаешься вопросом: не проще ли было уничтожить раздражающие газеты и сдать нежеланные книги в Веймарскую библиотеку? Всякая регистратура накапливает бумаги и вынужденно освобождает место. Нельзя всё просто «репонировать». От излишков приходится избавляться. И действительно, в дневниках Гёте можно найти записи о чем-то подобном. Правда, гётевского словаря у нас по-прежнему нет, так что я не вполне уверен, что в таких случаях следует понимать под «избавлением»: уничтожение документов или завершение дел. «Готовлюсь провести день в нижнем саду. Кое от чего избавился. Обдумывал прошение доктора Мейерса и его сына» (5 мая 1830 года). «Надзорные дела. Размышлял о делах предстоящих, частично от них избавился. Сделал поэтическую подборку для Вендта; нужно передать ее профессору Римеру. Кирхнеру поручил сравнить помпейскую область с одной частью Вены. Еще кое от чего избавился» (6 мая 1830 года). «Избавился от самых разных обязательств» (16 апреля 1830).
Отказ от чтения газет, «резкое решение», — это декларация независимости, которую Гёте провозглашает самому себе; так Карл Август «разрешился» от управления жизнью своих подданных и выдал на это рескрипт своим «надежным, достойным и высокоученым советникам, друзьям верным и преданным». Так ограничить себя самого Гёте замыслил по необходимости: с годами он начал страдать от нерешительности. Об этом рассказывал Фогель, семейный врач: «Всю свою жизнь, не считая ранней юности, Гёте очень ценил обстоятельность и осмотрительность, и в глубокой старости ему стало необычайно тяжело принимать решения. Он полагал, что эта черта характера, — а сам он напрямую называл ее своей слабостью, — связана с тем, что никогда в жизни ему не приходилось действовать стремительно; поэтому он иногда превозносил работу практикующего врача, ведь тот не имеет права откладывать свои решения. С другой стороны, никто, наверное, не сравнится с Гёте в том, с каким упорством, с какой даже смелостью он приводил в исполнение уже принятые свои решения; в таких случаях он, как правовед, любил приводить папскую комиссуральную формулу: non obstantibus quibuscunque [несмотря ни на что], — и действовал, при случае, соответственно. Если решение обязательно требовалось скорое, если новые обстоятельства все больше подталкивали к его срочному принятию, то Гёте быстро впадал в уныние. Особенно ярко это проявилось после кончины его единственного сына, когда Гёте снова пришлось взять на себя ведение всех своих многочисленных дел, от чего он давно отвык».
«Фаусту» тоже пришлось проходить через «экспедиционные фильтры». В 1775 году, во Франкфурте, он еще представлял собой груду бумажных обрывков, уложенных в «мешок». В письме Шиллеру от 5 мая 1798 года уже сказано следующее: «Я неплохо продвинулся со своим „Фаустом“. Старая запасная рукопись, в высшей степени путанная, переписана, и все части теперь — на отдельных сфальцованных листах, разложенных по номерам внутри общей схемы». В дневниковой записи от 21 июля упоминается «завершение основной работы»; 22 июля — чуть подробнее: «Основная работа доведена до конца. Последняя чистовая переписка. Все переписанное уже подшито». В августе, наконец, рукопись скрепляется печатью, о чем Гёте извещает своих друзей (письма 1831 года: графу Рейнхарду от 7 сентября, Сюльпису Буассере от 8 сентября, Вильгельму фон Гумбольдту от 1 декабря). Круг, можно сказать, был пройден и замкнут; сам Гёте очень любил эту формулу.
1951