Гроб, гроб, нэпман
Отрывок из книги «Новому человеку — новая смерть? Похоронная культура раннего СССР»
Анна Соколова. Новому человеку — новая смерть? Похоронная культура
раннего СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание
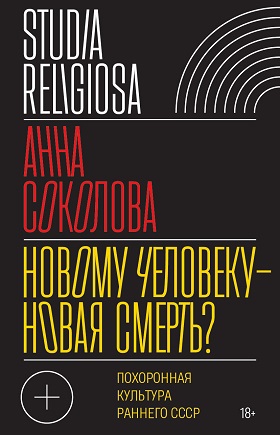 Резонансные, провокативные похороны революционеров и — позже — жертв революции в обеих столицах демонстрировали желание создать новый, альтернативный, построенный на антитезе похоронный обряд для борцов за революцию и строителей нового государства. Новый обряд должен был сочетать в себе две важные черты: декларацию приверженности новому строю и отказ от религиозных символов. Если политическая составляющая нового похоронного ритуала была к этому времени уже хорошо разработана, то нарочито безрелигиозный характер похорон можно считать в какой-то мере большевистской новацией. Именно в том, чтобы освободить семейную обрядность от религиозного контроля, сделать возможными светские, «безрелигиозные» родильные обряды, свадьбы и похороны, большевистские идеологи видели свою главную задачу. Декреты советской власти 1917—1918, годов, регулировавшие погребальные практики (декреты «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 12 декабря 1917 года, «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января (2 февраля) 1918 года, «О кладбищах и похоронах» от 7 декабря 1918 года), имели целью отменить конфессиональный контроль над семейной (и, в частности, похоронной) обрядностью. Многолетняя сословно-иерархическая система похорон, регулировавшая на государственном уровне стоимость и устанавливавшая статус погребения и предписывавшая обязательность религиозного похоронного обряда, была упразднена. Участие церкви в похоронах не только перестало быть обязательным, но и в некоторых случаях стало крайне затруднительным, особенно если покойный или кто-то из членов его семьи был человеком партийным.
Резонансные, провокативные похороны революционеров и — позже — жертв революции в обеих столицах демонстрировали желание создать новый, альтернативный, построенный на антитезе похоронный обряд для борцов за революцию и строителей нового государства. Новый обряд должен был сочетать в себе две важные черты: декларацию приверженности новому строю и отказ от религиозных символов. Если политическая составляющая нового похоронного ритуала была к этому времени уже хорошо разработана, то нарочито безрелигиозный характер похорон можно считать в какой-то мере большевистской новацией. Именно в том, чтобы освободить семейную обрядность от религиозного контроля, сделать возможными светские, «безрелигиозные» родильные обряды, свадьбы и похороны, большевистские идеологи видели свою главную задачу. Декреты советской власти 1917—1918, годов, регулировавшие погребальные практики (декреты «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 12 декабря 1917 года, «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января (2 февраля) 1918 года, «О кладбищах и похоронах» от 7 декабря 1918 года), имели целью отменить конфессиональный контроль над семейной (и, в частности, похоронной) обрядностью. Многолетняя сословно-иерархическая система похорон, регулировавшая на государственном уровне стоимость и устанавливавшая статус погребения и предписывавшая обязательность религиозного похоронного обряда, была упразднена. Участие церкви в похоронах не только перестало быть обязательным, но и в некоторых случаях стало крайне затруднительным, особенно если покойный или кто-то из членов его семьи был человеком партийным.
Хорошо развитая традиция политических манифестных похорон и решительный антиклерикализм новых властей формировали запрос на особую безрелигиозную коммунистическую обрядность как в партийной среде, так и среди сочувствующих большевикам. В первые годы после революции опыты «коммунистического ритуала» носили стихийный характер. Однако уже к концу Гражданской войны сформировались основные сценарии так называемых красных крестин, красных свадеб и красных похорон. В 1920-е годы идея создания новой обрядности (равно как и праздничной культуры) становится частью государственных агитационных кампаний по атеистической пропаганде и движения за новый быт. Обряды становятся своеобразной демаркационной линией между старым и новым миром, что отражается в публицистике того времени.
Новое понимание человека было неразрывно связано с реконцептуализацией человеческого бытия, смерти и посмертного существования. Если атеистическое общество отвергает религию и посмертное существование души, то какое идейное наполнение должен иметь похоронный обряд в этом случае? Нужны ли вообще обряды (в том числе и похоронный) новому коммунистическому обществу? Эти вопросы активно обсуждались в публицистике 1920-х годов. В осмыслении того, какими действиями должны сопровождаться рождение человека, изменения его социального статуса при жизни и его смерть в новом коммунистическом обществе, не было единого, четкого мнения. Горячим сторонникам новой обрядности Троцкому и Вересаеву противостоял председатель Союза воинствующих безбожников Емельян Ярославский, занимавший умеренную позицию.
По мнению Ярославского, необходимо было учитывать организующую и политическую роль «демонстративных революционных похорон», обусловленную в первую очередь задачами антирелигиозной пропаганды. Он считал, что чрезмерное, почти религиозное значение, которое порой придавалось «красным» похоронам, формализованный ритуал, «чуть ли не требник коммунистический», не только искажал первоначальный смысл и задачи новых обрядов, но и позволял идейным оппонентам задать закономерный вопрос: как можно бороться против старой церковной обрядности, создавая одновременно новую, в которой коммунисты «уже перещеголяли православных». Внимание молодых активистов к революционным похоронам порой доходит до абсурда:
Я как-то получил записки от одного застрелившегося комсомольца. Так этот комсомолец написал десяток предсмертных записок, и главной его заботой было: «похороните меня с музыкой, с такими-то обрядностями, произнесите на моей могиле речи». Он умирал — умер по пустяку, потому что заразился венерической болезнью и вместо того, чтобы пойти к хорошему врачу, который бы ему сказал, что можно вылечиться и ничего тут в этом страшного нет и не надо из-за этого кончать самоубийством, — он умирает. Он пишет целый план, как его хоронить, кто должен речи произносить и т. д.
Это, по мнению Ярославского, «страшная чепуха», с которой нужно бороться. Но существуют и «обратные перегибы», связанные с полным отрицанием похорон как таковых, с которыми также необходимо бороться:
Я знаю, у нас, среди коммунистов, есть товарищи, которые высказываются решительно против революционных похорон. Один товарищ даже написал завещание: когда я умру, я завещаю мой труп отдать в мыловарню и сделать из него мыло, а то у вас развивается «коммунистическое двоеверие». Вы, мол, боретесь против обрядности, а сами установили массу всяких обрядностей...
В своих выступлениях перед членами Союза воинствующих безбожников Ярославский не дает определенного конструктивного ответа по поводу того, какова должна быть работа активистов в области новой обрядности и «красных» похорон: «Вот эти обрядности и не надо крепко устанавливать, не надо их фиксировать, надо, чтобы здесь было известное творчество масс, революционное творчество, а вовсе не устанавливать ритуал каких-то октябрин, похорон и т. д.». Полагаясь на абстрактное «творчество масс», Ярославский ограждает подведомственный ему Союз воинствующих безбожников от необходимости активно участвовать в пропаганде новых обрядов и бороться с религиозной обрядностью.
Иной позиции придерживался оппонент Ярославского, харизматичный лидер коммунистической молодежи Лев Троцкий. По его мнению, именно церковная обрядность «держит на привязи» не только верующих, но даже и неверующего или маловерующего человека. Новое Советское государство дало рабочему классу юридическую возможность не соблюдать церковные обряды, но простому человеку куда сложнее оторваться от старой обрядности, чем государству. «Жизнь трудовой семьи слишком монотонна и этой монотонностью своей истощает нервную систему», поэтому пролетарской семье совершенно необходимо отмечать как-то важные события, происходящие в ней. Советское государство уже выработало свои новые праздники, символы, «свою новую государственную театральность». В частной жизни ситуация совсем иная — революционным членам семьи нечего противопоставить традиционной церковной обрядности. Поэтому активное стремление комсомольской молодежи заменить старую церковную обрядность новой, революционной, советской являлось наиболее открытым, простым и эффективным способом борьбы за новый быт в семье.
Отмечая огромную ценность эстетической, художественной, эмоциональной составляющих обрядов, Троцкий осуждает радикальное отрицание новых обрядов и обрядов вообще:
Жизнь человека, обнаженная от музыки и пения, торжественных собраний, радостных или грустных, смотря по случаю, по поводу, по причине, — будет скучной, пресной. Она и есть квас без изюминки. Так нам, революционерам, коммунистам, которые хотят не ограбить жизнь человека, а обогатить ее, поднять ее, разукрасить, улучшить, нам ли выплескивать из кваса изюминку? Ни в коем случае! <...> Поэтому кто говорит, что в бытовой работе никакой обрядности, понимая под обрядностью не церковные фокусы, а коллективные формы выражения своих чувств, настроений, — тот хватает через край. В борьбе со старым бытом он расшибет себе лоб, нос и другие необходимейшие органы.
Впрочем, при столь высокой оценке новой обрядности Троцкий, как и Ярославский, не считает, что она должна устанавливаться «сверху», поскольку это неминуемо приведет к бюрократизации этих новых явлений. Основой для появления новых обрядов должно стать коллективное творчество масс с привлечением художественной, артистической инициативы. Этот процесс может занять несколько десятилетий, но в результате выведет «на дорогу новых, одухотворенных, облагороженных, проникнутых коллективной театральностью форм быта». Впрочем, в отличие от Ярославского Троцкий считает, что за этими процессами необходимо пристально следить и осторожно направлять их в нужное русло, в частности, «всякие новые формы, зародыши новых форм и даже намеки на них должны попадать на страницы печати, доводиться до всеобщего сведения, пробуждать фантазию и интерес и тем толкать коллективное творчество новых бытовых форм вперед».
Троцкий отмечает, что среди всех революционных обрядов сложнее всего дело обстоит с погребением, поскольку «новая театральная обрядность, пропитанная революционной символикой» выступает на сцену только в случае похорон высокостатусного человека, лишь в этих случаях появляются красные знамена, ружейные залпы и революционный похоронный марш. В остальных же случаях консервативно настроенные родственники получают преимущество и совершается религиозный обряд.
Наиболее радикальную позицию по вопросу семейной обрядности занимал писатель и, публицист В. В. Вересаев. В своем очерке 1926 года «Об обрядах старых и новых (к художественному оформлению быта)» он рассматривает преимущественно самый трудный случай новой обрядности — «красные» похороны. Вересаев отмечал: «Великое, совершенно незаменимое значение обряда заключается в том, что переполняющие нашу душу чувства он направляет в определенное русло и этим до чрезвычайности облегчает проявление наших чувств». Прежняя, церковная обрядность великолепно справлялась с этими задачами, сейчас же, когда старый ритуал потерял актуальность, «на его месте не осталось ровно ничего». «Безрелигиозные» обряды, складывающиеся стихийным образом, Вересаев считал неспособными справиться с этой задачей, поскольку они «поражают, убивают душу своею убогостью и бездарностью». Вересаев последовательно рассматривает несколько «красных» похорон, в которых довелось участвовать ему самому либо его близким друзьям. Первые — похороны старой партийной работницы. Похороны были не рядовыми: прощание проходило в большом Красном зале Московского комитета РКП, был заказан оркестр, деятельность и репутация покойной позволили произнести достаточно содержательные речи во время гражданской панихиды на могиле. Несмотря на это, похороны оставили ощущение гнетущей пустоты. Вересаев отлично отдает себе отчет в том, что при похоронах рядовых граждан, пусть и самых достойных, ситуация еще хуже. Именно поэтому сущность новой обрядности не должна исчерпываться ее провокативностью и революционностью, поскольку со временем она станет привычным делом и перестанет вызывать какие бы то ни было эмоциональные переживания. «Нужно нечто разнообразное, сложное и величественное. Нужен ритуал, нужно определенное „действо”». Необходимо употребить весь творческий потенциал Советского государства, задействовать лучших, наиболее талантливых его граждан, «новых Пушкиных, Скрябиных, Станиславских», для того чтобы создать, срежиссировать новую обрядность. И пусть сначала этот новый ритуал будет выглядеть несколько комично, со временем к нему привыкнут — и он будет выполнять свою основную роль, ибо «главнейшее значение его» [обряда как такового] в том, что он, «с одной стороны, дает людям готовые, художественно-закрепленные русла для проявления теснящихся в душе чувств, — с другой же стороны, организует сами эти чувства, направляет, просветляет и углубляет их». Вересаев идет даже дальше: «Представьте, как было бы прекрасно, если бы вместо разных для каждой религии по всему миру — везде были бы одни и те же светлые, утверждающие жизнь, полные веры в будущее обряды, такие же для всех общие, как клич: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”»
Несмотря на большой интерес к новой практике кремации среди большевиков, практически во всех обсуждениях новой похоронной обрядности речь о ней не идет. Чаще всего новая похоронная обрядность рассматривается в применении к традиционному трупоположению. Однако и при анализе модерной практики кремации возникает вопрос о необходимости нового ритуального обрамления. Известный архитектор-авангардист К. С. Мельников в своем проекте, представленном на конкурс строительства Донского крематория, сделал основной акцент не на архитектурных деталях и эскизах, а на внутреннем идейном наполнении проекта. По его мнению, «незначительный успех крематорного дела в Европе да и в других странах, объясняется тем, что еще не найдена форма крематорного погребения» и именно архитектурная форма крематория должна создавать сам новый кремационный обряд. В некотором смысле проект, который предлагал Мельников, своим возвышенным отношением к новой действительности близок концепции Вересаева. Мельников полагает, что кремационное погребение не должно, как это бывает в большинстве случаев, маскироваться под более привычный обряд трупоположения, а значит, после прощания гроб не должен опускаться в открывающийся в полу люк. Архитектор полагает, что должна быть создана новая форма, которая позволит создать иной обряд, не имитирующий традиционный, но соответствующий основным «признакам самого дела». К таким важным признакам кремации Мельников относит экономию и механизацию, но прежде всего — медлительность и чинность. И именно в медлительности и чинности он находит основные признаки культа, будь то религиозного или гражданского. Общая форма любого погребального обряда, по его мнению, «состоит в торжественности, величии — покойник является центром всего ритуала». Именно поэтому колесница катафалка должна быть запряжена лошадьми («Я не видел покойника, ведомого на автомобиле», — отмечает симпатизирующий техническому прогрессу архитектор), а всей процессии должна быть свойственна медленность, «так как быстро скачущих похорон тоже не замечено».
В проекте крематория Мельникова, действительно, сама архитектурная форма создает похоронный обряд:
Три портала, прикрытых как вуалью стеклянными сенями, ведут в зал. Два боковых из них, чтобы не нарушать торжественности процессий, — проходят через ожидальни. Внутри, по середине зала, возвышение, ярко освещенное через купол.
Поставленный гроб на возвышение и окруженный близкими родственниками, виден со всех точек зала. После окончания обряда и прощаний с покойником, делается сигнал к захоронению.
И в то время, когда гроб будет медленно опускаться, сила дневного света начнет тускнуть при помощи опускания верхнего купола.
Продолжение опуска гроба видно через стекла под возвышением, в котором в этот момент, когда кругом будет густой полумрак, — зажигается яркий электрический свет.
Всем присутствующим отчетливо и ясно виден гроб и его движение к печи.
Процесс сжигания присутствующие, циркулируя по полумаршам лестниц под возвышением, наблюдают через контрольное окно, и после окончания пепел, ссыпанный на их глазах в капсюль, — запечатывается родственниками.
Психологические воздействия заканчиваются одновременно с реальными действиями, и тем самым замыкается и конец КРЕМАТОРНОГО ПОГРЕБЕНИЯ.