«Гражданских мы там перебили массу»
Из «Корейской войны» Макса Хейстингса
В 1980-е британский историк и журналист Макс Хейстингс взял сотни интервью у людей, заставших войну на Корейском полуострове в качестве непосредственных участников, свидетелей, жертв. Итогом этого труда стала большая книга, поучительный отрывок из которой сегодня публикует «Горький».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Макс Хейстингс. Корейская война 1950–1953. Неоконченное противостояние. М.: Альпина нон-фикшн, 2025. Перевод с английского Марии Десятовой. Содержание
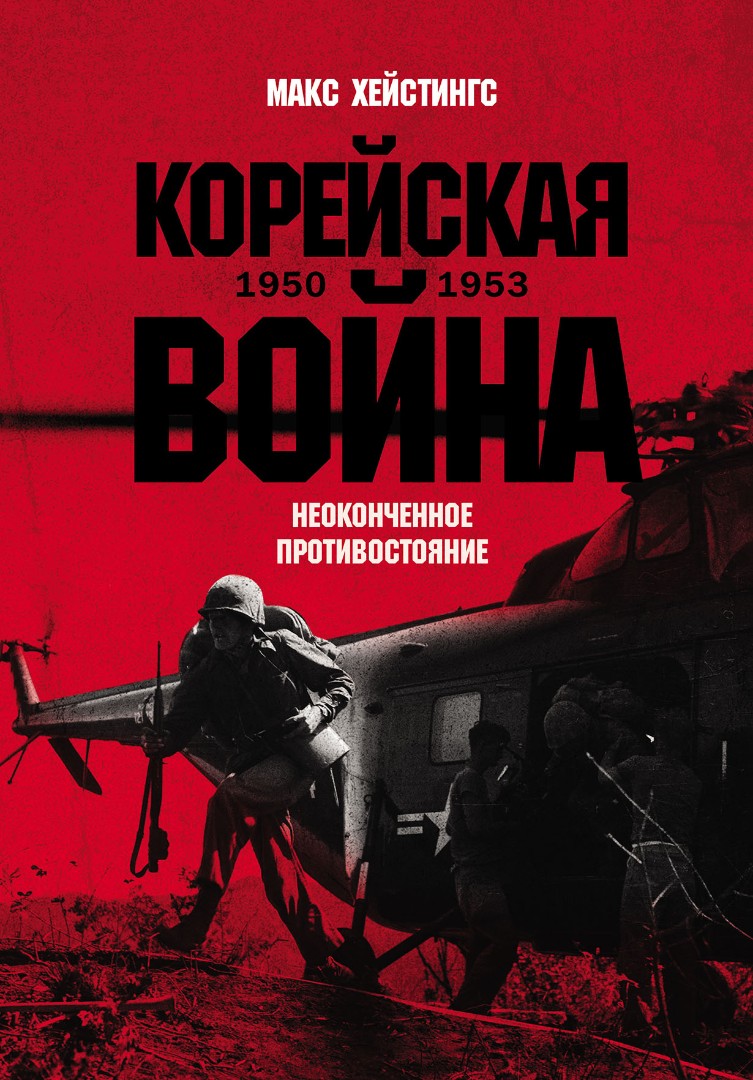
Однажды летом 1951 года британский лейтенант Брайан Хокинз обнаружил на нейтральной полосе жестянку с посланием от китайцев, оно гласило:
Офицеры и рядовые 1-й дивизии Соединенного Королевства! В ходе апрельских боев 701 военнослужащий британской 29-й бригады оказался в плену у одной из наших частей. Мы отправили их в безопасный тыл на обучение. С ними обращаются наилучшим образом. Каждый день после учебы они играют в мяч и развлекаются. Поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь за них. Мы пишем здесь имена этих офицеров, чтобы вы передали их родителям и женам, что они в безопасности и в будущем вернутся домой. Жизнь бесценна. Вам стоит поберечь себя для лучших времен. Вы можете спрятаться, когда вам приказывают сражаться. Когда увидите китайских добровольцев или солдат Корейской народной армии, бросайте оружие и переходите к ним. Мы гарантируем, что вам не причинят вреда, не обидят и будут вдоволь кормить. В противном случае впереди у вас только смерть.
Китайские народные добровольческие силы
Интересно, что китайцы на корейской передовой честно придерживались «мягкой политики» по отношению к пленным. На протяжении всей войны китайцы (но не северокорейцы) не только оставляли в живых бойцов ООН, даже когда у них была возможность их уничтожить, но и отпускали, отправляя обратно на рубежи войск ООН в пропагандистских целях. И все же неуклюжие попытки проявить гуманность, которые иногда предпринимались на фронте, скрывали ужасающую реальность происходящего в тылу. «Ничего не знаем ни о какой Женевской конвенции, — надменно заявил офицер-коммунист полковому священнику падре Сэму Дейвису, попавшему в плен на Имджингане, и указал на своего дознавателя. — Теперь ты подчиняешься ему». Из всего, что выяснилось о корейском конфликте после войны, не было более горького открытия (в Соединенных Штатах реакция была на грани истерики), чем правда об обращении коммунистов с пленными из войск ООН. Сухие цифры говорят гораздо красноречивее любых художественных описаний. Из 7140 американских пленных, попавших в руки противника, в плену умерли 2701. Из 1188 офицеров и рядовых Содружества, объявленных пропавшими без вести или взятыми в плен, умерло около пятидесяти. Запад был ошеломлен, когда во время наступления 1950 года в Северную Корею в железнодорожном тоннеле были обнаружены сотни тел американских пленных, зверски убитых отступающими коммунистами. С самого начала войны армия Ким Ир Сена недвусмысленно давала понять, что намерена убивать американских пленных, когда ей заблагорассудится.
«Принимает ли во внимание достопочтенный джентльмен, — поинтересовался депутат парламента майор Гарри Легг-Берк у одного из британских министров на заседании в палате общин в январе 1951 года, — единодушие наших военных, побывавших во время прошедшей войны в японском плену и заявляющих в один голос, что из всех ненавистных охранников больше всего они боялись именно корейцев? Не соблаговолит ли он в связи с этим донести до северокорейцев необходимость соблюдать [Женевскую] конвенцию?»
Собеседник ответил, что «министр иностранных дел делает все от него зависящее — через своего представителя, британского поверенного в делах в Пекине». Однако все заинтересованные лица прекрасно понимали, что это все не более чем сотрясание воздуха. Северной Корее закон не писан. Единственным смягчающим обстоятельством при оценке их обращения с пленными может служить аналогичное обращение многих бойцов ООН с пленными коммунистами. Многие американские офицеры и рядовые, с которыми я беседовал в ходе работы над этой книгой, признавались, что знали о расстрелах пленных коммунистов (или даже участвовали в них), когда оставлять их в живых оказывалось неудобно. Справедливо предположить, что многие военные ООН не видели в северокорейских солдатах равного противника, с которым надлежит обращаться по-человечески, а считали их кем-то вроде зверей, иного обращения недостойных. Как обычно бывает в большинстве войн, когда на фронте было затишье, с пленными коммунистами обращались как подобает и отправляли в лагеря в тылу. Однако в более напряженные периоды, особенно в первые полгода войны, многие бойцы войск ООН расстреливали вражеских пленных — и даже мирных корейцев — практически без тени сомнения. «Мне до сих пор стыдно вспоминать о том, как мы обращались с пленными, — говорит рядовой Марио Скарселлета из 35-го пехотного полка. — Привязывали их раздетыми к капоту джипа и возили по округе. Забирали группой на допрос и расстреливали. Мой отряд брал не так уж много пленных». В этом они были не одиноки. «Мы не брали пленных, — без лишних сантиментов сообщает рядовой Уоррен Эвери из 29-го пехотного полка. — Наш переводчик лейтенант Мун постоянно просил нас кого-нибудь привести, но мы так никого ему и не привели. В гробу я видел эту Женевскую конвенцию. Я застрелил старуху с рамой-переноской на спине. И вообще гражданских мы там перебили массу. Им просто нельзя было доверять. Один раз увидишь, как они убивают экипаж танка, и больше на случай не полагаешься. Заметишь кого в горчичных парусиновых тапках — стреляй». Нам по-прежнему важно и необходимо различать случайные действия отдельных частей ООН и систематическую жестокость северокорейцев. Однако сейчас, более тридцати лет спустя, не менее важно, оценивая поведение коммунистов, рассматривать поведение западных частей в контексте.
Помимо происходившего на полях сражений печальную славу корейской войне принесло еще одно обстоятельство: это был первый крупный вооруженный конфликт современности, в котором воюющая сторона предпринимала систематические попытки обратить пленных в свою идеологию. Об успехах китайцев в этом деле можно отчасти судить по статистике: двадцать один американец и один британец отказались после окончания военных действий возвращаться на родину. К 1959 году американцы утверждали, что выявили среди побывавших в корейском плену семьдесят пять коммунистических агентов. Самым серьезным случаем можно считать Джорджа Блейка, бывшего британского вице-консула в Сеуле, схваченного и интернированного в июне 1950 года и остававшегося в руках коммунистов до 1953-го. Десять лет спустя Блейка раскрыли как ключевого советского агента в британском Министерстве иностранных дел. Глубокий страх, что в государственных структурах и правящих кругах могут скрываться и другие такие же предатели, не отпускал Запад еще как минимум лет десять, став темой книг и фильмов, таких как «Лимит времени», «Дыба» и «Маньчжурский кандидат». Когда после Пханмунджомского перемирия стало известно о подобном опыте пленных солдат ООН, американцы еще больше ужасались количеству соотечественников, в той или иной степени сотрудничавших с врагом во время пребывания в лагере. Неужели коммунисты, занимаясь промывкой мозгов в лагерях вдоль Ялуцзяна (Амноккана), и вправду открыли какую-то психологическую формулу, позволяющую делать перебежчиков из солдат, сражающихся за свободу? Если это действительно так, за будущее борьбы с коммунизмом и в самом деле стоило опасаться.
* * *
В любой войне, с любым противником больше всего пугают первые минуты в плену, потому что именно тогда выше всего риск попасть под горячую руку и быть застреленным. Когда в январе 1951 года капитан Джеймс Маджури оказался среди группы ольстерских стрелков, захваченных китайцами, их заставили встать на колени во дворе какого-то корейского дома. Китайский офицер сказал им: «Вы пришли сюда убивать миролюбивый народ Кореи. Но мы будем обращаться с вами как с людьми, способными встать на путь истины». Капрал Масси из пулеметного взвода, батальонный боксер в полусреднем весе, послал их на неподражаемом языке верфей Белфаста: «Слышь, мистер, давай себе самому мозг***!» И сколько бы людей во всех контингентах ООН ни брали в плен на корейской войне, поражало, сколько находилось таких бесшабашных храбрецов.
Большинство пленных солдат ООН в первые часы пребывания в руках коммунистов выслушивали что-то вроде программной речи. Полковой священник Сэм Дейвис вспоминает, как перед пленными глостерширцами после сражения на Имджингане ораторствовал в характерном для подобных выступлений духе старший китайский офицер:
Офицеры и рядовые британской армии, теперь вы в плену у Китайских народных добровольческих сил в Корее. Американские империалисты дурачат вас. Вы — орудие в руках реакционных разжигателей войны, которые противостоят борьбе корейского народа и их китайских собратьев за правое дело. Вы наемники варварского марионеточного правительства Ли Сын Мана, но вам будет дана возможность постичь в учении истину и исправиться. Бояться нечего, мы не причиним вам вреда. Дома вас ждут родные и близкие. Подчиняйтесь нашим правилам и порядкам, и вас не расстреляют.
Когда морского пехотинца Эндрю Кондрона вместе с полусотней других американцев взяли в плен в Долине Адского Огня 30 ноября 1950 года (в ходе кампании у Чосинского водохранилища), китайский офицер принялся, к немалому их недоумению, вещать по-английски о том, что и пленные, и захватившие их в плен — представители одного общего пролетарского братства. «Такие же пролетарии, как мы? — переспросил озадаченный рядовой. — Я думал, они долбаные коммуняки». Китаец пожал каждому руку, выдал немного трофейных сигарет и консервов и запер в ближайшей хижине. Первый конфликт с тюремщиками вспыхнул совершенно неожиданно, когда один из охранников принес кипяток в дымящейся тыкве-горлянке. У кого-то нашлось мыло, и пленные радостно принялись смывать грязь, которой они заросли за эти дни. Однако вернувшийся охранник уставился на них в священном ужасе. Он примкнул штык, и на какой-то страшный миг пленникам показалось, что сейчас он их просто заколет. Но он согнал их к стене, вопя и бранясь. А потом скрылся.
Вместо него явился офицер и отчитал их на английском. Охранник взял на себя риск и хлопоты по разведению костра, чтобы нагреть им воды для питья. Израсходовав ее на мытье, они его обидели. «Типичное „Запад есть Запад, Восток есть Восток“, — говорит Кондрон. — Мы просто не знали». Только после этого их додумались обыскать, забрали ножи, часы, зажигалки. Увели раненых. Из них, насколько Кондрон знает, ни один не выжил. Справедливости ради, учитывая примитивный уровень китайских медицинских учреждений, они и собственным раненым не могли предложить условия лучше. Однажды ночью всех ходячих пленных подняли и погнали куда-то пешком. Этот переход будет длиться почти месяц.
Сотни людей, в первую очередь раненые, умирали на марше из района боевых действий, даже не добравшись до лагеря. «Признаком скорой смерти служила повозка, следующая за колонной, — говорит Джеймс Маджури. — Если вас на нее сажали, вы вскоре замерзали насмерть». Пленных косила пневмония и дизентерия. На протяжении всего марша к лагерю пленных не отпускало ощущение, что гибели не миновать. Однажды утром, когда раздался приказ: «Все британцы на выход!» — у двух десятков королевских морских пехотинцев из отряда Эндрю Кондрона даже сомнений не возникло, что сейчас их расстреляют. Китайцы суетились и нервничали. Два часа их старший терзал британцев пропагандистскими речами и выпытывал, где офицер, который, как ему втемяшилось, среди них скрывается. Никакого офицера у морпехов не было. «Я вас не верит! Кто офицер?» Британских пленных погнали длинной колонной по одному вдоль железнодорожных путей. Кондрон раскис. В голову лезли мысли о завтраке дома в Уэст-Лотиане: кровяная колбаса, сосиски, яичница. Почему он не пошел в авиацию, как большинство его друзей? Ему стало еще жальче себя, когда он увидел стайку корейских ребятишек, потешавшихся над пленными со склона холма. За поворотом им открылась огромная яма — воронка от бомбы. Кондрон решил, что сейчас она и станет им братской могилой. Но конвойные жестами велели им пройти дальше, в дом. Все выдохнули с облегчением. Один из морпехов, Дик Ричардс, шепнул Кондрону: «Тоже дурные мысли в голову полезли, да, Красный?» У них затеплилась надежда остаться в живых.
За последующие три или четыре месяца им ни разу не представился случай помыться или раздеться, можно было разве что руки снегом потереть. Тем не менее Кондрон, как шотландский социалист, не мог не отметить, что за все время перехода китайцы ни разу не взвалили на пленных свое тяжелое снаряжение и что не только охранники, но и их офицеры, воспринимая такой порядок как должное, ежедневно выстраивались вместе с пленными в очередь за сорго. Но Кондрон, как он сам признает, только позже понял, что за этим стояла сознательная политическая цель.
Среди конвоируемых оказалось двое американских морпехов, побывавших прежде в японском плену и умевших объясняться с китайцами. Они осваивались в этих обстоятельствах легче, чем пленные из числа обычных американских армейцев. «Американские солдаты вели себя как индивидуалисты, — говорит Кондрон. — Если одному удавалось утащить что-то съестное, он забивался в угол и съедал это сам. Британские и американские морпехи были сплоченнее. Мы держались друг за друга. Когда идти было тяжело, мы подбадривали выдыхающихся: «Ну давай, чего ты! В учебке еще хуже гоняли, забыл?»
Потом от американцев, владеющих японским, пришла новость, от которой сил у всех мгновенно прибавилось: «Всех пленных отпустят домой». К их огромному изумлению, их вдруг посадили на поезд. Он покатил на юг. Так они ехали четыре или пять ночей, пережидая светлые часы в тоннелях. Под Пхеньяном их мелкими партиями перевезли на сортировочные склады, где они просидели еще неделю. Потом небольшую часть отобрали — без всякой видимой логики — и увели. Этих пленных действительно вернули на рубежи войск ООН, видимо, в пропагандистских целях, чтобы убедить Запад в беспочвенности слухов о поголовных расстрелах. Остальные стали получать больше еды: немного риса, курицу, суп. Некоторые американцы, вне себя от радости, сочиняли телеграммы и письма родным, чтобы отправить, как только их отпустят. Некоторые часами обсуждали меню первого ужина после освобождения. Британцы ввели на подобные разговоры самозапрет, строго постановив: о еде ни слова. И тут китайцы объявили: «Вы отправляетесь на север — в лагерь для военнопленных». Можно представить себе потрясение тех, кто мыслями был уже почти дома. Еще через несколько недель Кондрон помогал хоронить одного американца, который в поезде распланировал себе почасовую программу на первые семь дней свободы.
Только теперь их начали допрашивать. Они боялись допросов заранее, но действительность их озадачила. Пытаясь подготовиться, они обсуждали с американским капитаном, как отвечать на военные темы. Но таковых не последовало. Вместо этого приветливый китайский офицер сел на пол, предложил каждому стакан горячей воды и начал задавать вопросы:
— Что заниматься ваш отец? Кто работает ваш мать?
— Моя мать не работает, — ответил Эндрю Кондрон.
— Почему ваш мать не работает?
— Она домохозяйка.
— Что есть домохозяйка?
— Просто не ходит никуда на работу.
— Сколько земля иметь ваш семья?
— Есть сад за домом.
— Что растит?
— Картошка, ревень.
— Сколько корова иметь ваш семья?
— Мы покупаем молоко у молочницы.
— Что есть молочница? Сколько свинья иметь? Сколько корова?
Наконец, китаец заключил с довольной улыбкой: «Ваш семья очень мало земля. Вы бедный крестьянин». Британцы неделями потешались над морпехом из лондонского Ист-Энда, который на вопрос о земле живо описал ящик с цветами под окном.
И все же, если во всей этой наивности легко углядеть комизм, холодное дыхание страха пленные чувствовали почти все время. С группой Кондрона китайские конвоиры обращались относительно сносно. Многим другим, попавшим в руки северокорейцев, доставалось по полной. Летчиков и технических специалистов отделяли от остальных и допрашивали с большим пристрастием и знанием дела. В первые месяцы плена многие офицеры подверглись жестокому обращению и месяцами сидели в карцере. Самые страшные зверства творились в плену у северокорейцев во время переходов или в лагерях вокруг Пхеньяна — во «Дворце Пака», в «Пещерах», в лагере № 9 в Кандоне.