Городок на насесте обугленной земли
Фрагмент романа Джона Хоукса «Людоед»
Есть в сегодняшней Германии городок, не могу сказать, где именно, который великим усилием приподнялся над невзгодами, что выпадают на долю разгромленных сообществ на континенте. Теперь он вот уже три года постепенно совершенствуется под моим водительством, и я почти совсем удовлетворен успехами, каких мы достигли в общественном обустройстве. Райское это местечко: в нем все наши воспоминания, и люди все время к нему стремятся. Но до сих пор миру снаружи об этом месте — ни слова, поскольку я счел более уместным, чтобы мой народ держал свое счастье и представления о мужестве при себе.
Однако мне пришлось ненадолго покинуть городок, и, будучи в отлучке, я пошел на компромисс. Ибо рассказал нашу историю. То, что надлежит сделать, тяжким грузом лежит на моем сознании, и вся замечательная бурливость этих заграничных городов не способна меня отвлечь. Сейчас же, хоть мне здесь и нравится, я выжидаю и при первой возможности, конечно, вернусь.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — 1945
Один
За краем городка, подальше крытых толем домов бедноты и за низкой горкой, голой, если не считать павших столбов электропередачи, располагалось учреждение, и оно разбросало трепетать свои хрупкие уединенные постройки по гравию и шлаку, устилавшим долину. Оттуда однажды ранней весной вышел с древесной конечностью в виде трости Баламир, с тенью вышел и шагом, что не был свободен, дабы попасться на глаза и под руку мадам Снег. Всех слабоумных братьев Баламира сходным же манером выпустили скитаться подальше от гравийных дорожек, искать любого, кто снабдит жестяной тарелкой или желанной выпивкой. Мадам Снег приготовила ему комнату, приспособила его к работе — копаться в полуподвале, в бункере, и черный воздух сомкнулся на кучах обломков, и ему захотелось домой. Немощных братьев его постепенно поглотили, целыми корпусами за раз, в себя зияющие стены, таинственно ушли они в пустые улицы и отдаленные темные забитые досками фермы, неохотно с улиц их забрали. И все ж население не выросло, рыскали по вечерам те же немногие бурые фигуры, те же лохмотья стирки неделями висели на том же холодном воздухе, а Счетчик Населения раскорячился, худой и пьяный, синяя фуражка набекрень, за своим письменным столом. Городок не вырос, но учреждение опустело, чиновники и нянечки отправились в дальние земли, глаза прищурены, лица осунулись, и из-за высоких узких зданий ни звука не стало слышно. Всякий день с горки худые дети взирали на порожнего скорпиона, который только и остался от упорядоченного учреждения.
В вышине над городком нависал единственный шпиль зазубренной стали, лишенный знамен, не обнесенный стенами зданий, торча над ними всеми в холодном синем вечере. До самого верха по шпилю висели криво обнаженные стальные перекладины, а поперек узкого открытого окна в погреб, где Баламир приостановился, белая кожа его повлажнела в недвижном вечернем свете, вогнали стальные слябы. Кучи опавших кирпичей и штукатурки оказались в канавах, словно сугробы снега, разбитые стены исчезали во тьме, а по пустым улицам тянулись ряды пустых тележек торговцев. У Баламира не было защиты от холода. Он обнаружил, что ветер овевает ему широкий лоб и пересохшее горло, горько залетает в раскрытый рот его грубого задранного жесткого воротника. Обнаружил он в сырой замерзшей полости погреба, что не может раскопать деревянную скамью, чудовищную завитую вазу, заплесневелое бюро и ни один из заледенелых горшков в неровно сваленных кучах, что захламляли весь земляной пол и высились до самых стропил. Он обнаружил, что земляные обитые стены глушили его долгие вои по ночам, и звук поэтому оставался лишь в его же ушах. Пока работал, ковыряясь угольным совком, или сидел, уставившись в окно, над головой шаркали обернутые бумагой стопы, а в обитаемых кухнях городка мерцали свечи, над мерцавшими углями разогревали банки жидкого супа, ныли дети. Книжные лавки и аптеки разгромили, и страницы раскрытых книг бились взад и вперед на ветру, а из рассевшихся боковин украшенных картонных коробочек тонким снежком по улицам разносило набитую туда дешевую пудру. Ноги попирали россыпь конфет из папье-маше. В отдаленных районах, компаниями по четверо и пятеро, братья Баламира гонялись по ухабистой и замерзшей земле за домашним скотом, злые и замерзшие, маша толстыми руками, или сбивались вокруг слабых костерков, хохоча и холодея. Малое число этих людей, швырнувши тесаки или мгновенно взбеленившись во тьме с испятнанными ножами, бродили туда и сюда по камерам городской тюрьмы, колотя себя и невнятно проклиная. Остальные же, включая Баламира, не сознавали, что они за пределами высоких стен учреждения. Население городка оставалось таким же, и ворье из тюрьмы отправлялось домой, дабы поддерживалось равновесие.
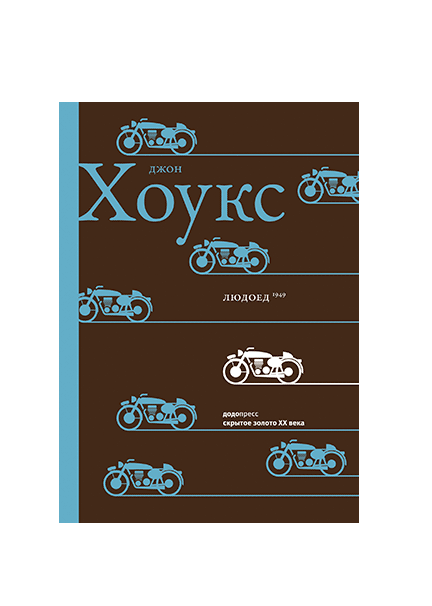 Мадам Снег, владелица здания, жившая на уровне улицы над помещением в погребе, была б бабушкой, если б дитя ее сына не погибло, не больше птички, при взрыве всего в квартале от них. В недвижном утреннем воздухе заиндевевшие поля вокруг городка потрескивали от нечастого громыханья мелких взрывов, а те, что раздавались в самом городке, оставляли у нее в ушах краткий бесполезный свист. Но дети сестры мадам Снег выжили, дабы ползать бесполо и испуганно по убогим комнатам. Раз за разом до того, как пришел Баламир, мадам Снег наблюдала, как с закипевших грузовиков слезают худые мужчины, — ждала возвращения сына. Когда он наконец прибыл со своей культей и стальными тростями, у которых запястья ему для дополнительной поддержки охватывали особые стальные кольца, даже одного убогого числа не добавил к исчерканному списку пьяного Счетчика Населения. Вернулся он к своей жене и комнатам на углу кинотеатра и с того времени работал в жаркой кинобудке с черной машиной, каждый день показывая одну и ту же смазанную картину отсутствию зрителей в зале. С тех пор мадам Снег его не видела. Она деловито дворничала, споря с жильцами или утешая; или сидела в обширном золоченом кресле, сшивая воедино тряпье и нечасто отрывая головы у мелкой дичи. В коридорах больше не пахло жарящейся свиньей или варящейся капустой, уж не звенели они в полноте своей от тяжкого смеха, а оставались темны и холодны, исполосованы грязью от жильцовских сапог.
Мадам Снег, владелица здания, жившая на уровне улицы над помещением в погребе, была б бабушкой, если б дитя ее сына не погибло, не больше птички, при взрыве всего в квартале от них. В недвижном утреннем воздухе заиндевевшие поля вокруг городка потрескивали от нечастого громыханья мелких взрывов, а те, что раздавались в самом городке, оставляли у нее в ушах краткий бесполезный свист. Но дети сестры мадам Снег выжили, дабы ползать бесполо и испуганно по убогим комнатам. Раз за разом до того, как пришел Баламир, мадам Снег наблюдала, как с закипевших грузовиков слезают худые мужчины, — ждала возвращения сына. Когда он наконец прибыл со своей культей и стальными тростями, у которых запястья ему для дополнительной поддержки охватывали особые стальные кольца, даже одного убогого числа не добавил к исчерканному списку пьяного Счетчика Населения. Вернулся он к своей жене и комнатам на углу кинотеатра и с того времени работал в жаркой кинобудке с черной машиной, каждый день показывая одну и ту же смазанную картину отсутствию зрителей в зале. С тех пор мадам Снег его не видела. Она деловито дворничала, споря с жильцами или утешая; или сидела в обширном золоченом кресле, сшивая воедино тряпье и нечасто отрывая головы у мелкой дичи. В коридорах больше не пахло жарящейся свиньей или варящейся капустой, уж не звенели они в полноте своей от тяжкого смеха, а оставались темны и холодны, исполосованы грязью от жильцовских сапог.
Здание криво и безмолвно клонилось в ряду черных испятнанных фасадов, а мимо задней ограды опорожнялся канал; на углу, где боковая улочка встречалась с пустой дорогой, высилась мешанина стального шпиля. Когда мимо задернутых штор проходил мальчишка в черной военной фуражке, кожаных подтяжках и коротких штанишках, мадам Снег алчно выглядывала в щелочку, а затем вновь отступала во тьму. На третьем этаже дома располагалась квартира Счетчика Населения, который оставлял, отшвырнув, свою каплющую накидку в нижнем коридоре. На четвертом этаже проживал херр Штинц, одноглазый школьный учитель, а над ним со своими детьми и обесцвеченными растениями жила Ютта, сестра мадам Снег. Херр Штинц раньше состоял в оркестре и допоздна играл теперь на тубе, а ноты падали на брусчатку, напоминая топот жирных марширующих ног. А вот жилец на втором этаже отсутствовал.
— Пойдемте, — сказала мадам Снег Баламиру, — входите. Тепла комната вообще-то не дает, но долой ваше пальто. Вы дома. — Баламир знал, что он не дома. Глянул на столик с рядами игральных карт и на единственное позолоченное кресло, посмотрел на яркие фигуры, где мадам Снег играла одна. Он тщательно оглядел дворцовую залу и поломал голову над дубовыми завитками над дверью с занавесом и вышиной паучьего черного потолка. — Сядьте, — произнесла мадам Снег, боясь дотронуться до его руки, — садитесь, пожалуйста. — Но он не стал. Он никогда не садился, если кто-то мог его увидеть. Поэтому замер посреди комнаты, а отставший в росте котик терся о его ногу. Служитель, на лицо надвинута шляпа, а калоши толсты и слишком велики, вручил мадам Снег пачку потрепанных бумаг и ушел как тень.
— Чаю выпьете? — он глянул себе на руки, увидел исходящую паром воду и единственную чаинку-звездочку, что медленно кружила у самого дна чашки. Он видел, как медленно расходится бледный цвет, подползает по фарфору к его пальцам, смотрел, как вращается звездочка, а чашка кренится, словно луна. Но пить не стал. Маленькая женщина наблюдала за ним краем глаза, свет почти погас. Волосы у него грубы и косматы, и он не желал пить ее чай. Внизу, в погребе Баламир вновь надел пальто и стоял, покуда она спешила назад, вверх по каменным ступеням, ибо он ощущал холод. — Спокойной ночи, — сказала она и повернула латунный ключ.
Ребенок Ютты, ботинки развязаны, а губы побелели, бежал по тропке среди обломков, спотыкался о камни, миновал нависавшие железные подоконники и разбитые окна, пытался рыдать и стремился дальше. За ним следовал мужчина, размахивая тростью, вглядываясь в темноту. Дитя пробежало мимо стены, заляпанной дырами и пальцами какого-то мертвого защитника, а позади ребенка мужчина кашлянул.
Мясная лавка закрывалась, и с крюков свисало несколько непроданных холодных прядей, ощипанная кожа и ползучие вены оставались неосмотренными, висящими, но без официальной санкции. Ребенка за колено поймала проволока.
Городок на насесте обугленной земли, более не древний, ноги и голова отчекрыжены у его единственной конной статуи, набивал себе брюхо забредшими нищими и оставался костлявым под покровами злой луны. Грохочущие поезда поворачивали обратно при виде загибающихся рельсов, расцветавших в сырой весне на краю города напротив горки, а поля, истоптанные орудийными ядрами, пятнала уединенная нужда зверя и человека. Когда старые семьи возвращались вновь прихорашиваться на берегах канала или гулять поодиночке облаченными в черное, заключенные гуськом тянулись наружу по горкам — либо именами на проездном ордере, либо, если такой билет потеряли, просто как несочтенные номера. Когда какого-то старика скрутило помирать в ужасном кашле, Ютта предавала своего утраченного мужа и вновь была брюхата. Городок без стен и баррикад своих, пусть по-прежнему и бивуак тысячи лет, съежился в скелете своем и разложился, как бычий язык, почернелый от муравьев.
Перевод с английского Максима Немцова