Гоголь: реализм и сюрреализм улицы
Глава книги Маршалла Бермана «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности»
Почти через 40 лет после первой публикации в США до русскоязычного читателя добралась книга американского философа-марксиста и литературного критика Маршалла Бермана «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности». «Горький» публикует главу из этого труда, в котором рассказывается, как «Невский проспект» Гоголя предвосхитил искусство XX века.
Маршалл Берман. Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности. М.: Горизонталь, 2020. Перевод с английского В. Федюшина, Т. Беляковой. Содержание
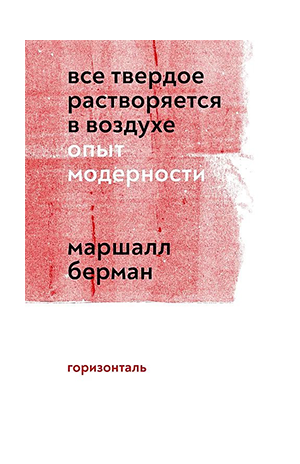 Первым обратил в искусство народную мифологию Невского проспекта Гоголь. Он сделал это в великолепной повести «Невский проспект», опубликованной в 1835 году. Эта повесть, едва известная англоговорящему читателю [1], повествует, главным образом, о романтической трагедии молодого художника и романтическом фарсе молодого военного. Их истории мы рассмотрим чуть ниже. Однако куда оригинальнее и важнее для наших целей введение, в котором Гоголь описывает естественную среду обитания своих протагонистов. На этих нескольких страницах он без видимого труда (или даже осознанности) изобретает один из главных жанров модерной литературы: роман о городской улице, в котором она сама по себе выступает героиней. Рассказчик Гоголя обращается к нам со следующей тирадой:
Первым обратил в искусство народную мифологию Невского проспекта Гоголь. Он сделал это в великолепной повести «Невский проспект», опубликованной в 1835 году. Эта повесть, едва известная англоговорящему читателю [1], повествует, главным образом, о романтической трагедии молодого художника и романтическом фарсе молодого военного. Их истории мы рассмотрим чуть ниже. Однако куда оригинальнее и важнее для наших целей введение, в котором Гоголь описывает естественную среду обитания своих протагонистов. На этих нескольких страницах он без видимого труда (или даже осознанности) изобретает один из главных жанров модерной литературы: роман о городской улице, в котором она сама по себе выступает героиней. Рассказчик Гоголя обращается к нам со следующей тирадой:
Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта <...> А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен?
Он пытается объяснить нам, чем же эта улица так отличается от всех прочих:
Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. <...> Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! <...> Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
Неотъемлемая суть улицы, наделяющая ее особым характером, — это ее общественная природа: люди приходят сюда, чтобы увидеть других и показать себя, чтобы обменяться идеями, без задней мысли, жадности или вражды, а просто ради самого процесса. Их общение как послание улицы представляет собой странную смесь реальности и фантазии: с одной стороны, в нем раскрываются фантазии людей о том, какими они хотели бы быть; с другой стороны, оно дает — тем, кто сможет его расшифровать, — истинное знание о том, каковы люди на самом деле.
В общественном характере Невского есть несколько парадоксов. С одной стороны, он сталкивает людей лицом к лицу; с другой стороны, он проносит их друг мимо друга с такой скоростью и силой, что рассмотреть кого-либо вблизи очень сложно: пока сосредоточишься на лице, он уже исчезнет из виду. Поэтому по большей части на Невском можно встретить скорее не намеренно созданные образы людей, но проносящиеся мимо отдельные их формы и черты.
Как чисто подметены его тротуары и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестию которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости.
В этом отрывке, написанном будто бы с точки зрения мостовой, мы понимаем, что рассмотреть людей Невского проспекта можно только, если разбивать их на составные части — в данном случае мы видим ноги, — но понимаем также, что если присмотреться, то в каждой черте можно увидеть микрокосм всего их существа.
Этот мозаичный образ разрастается вширь и вглубь, когда Гоголь описывает день из жизни улицы. «Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня!» Рассказчик Гоголя начинает потихоньку, с мига перед рассветом, пока сама улица еще пуста: здесь только несколько мужичков, бредущих из деревни работать на больших стройках города, да попрошаек, сгрудившихся перед пекарнями, чьи печи без продыху горели всю ночь. К рассвету жизнь закипает: продавцы открывают магазины, выкладывают товары, старушки спешат на заутреню. Постепенно улица заполняется чиновниками, спешащими на службу, а скоро и экипажами их начальников. Когда наступает день, а Невский разбухает от толп людей, набирает энергию и скорость, проза Гоголя тоже ускоряется и становится более напряженной: не прерываясь, он громоздит одну группу на другую — педагоги, гувернантки и их подопечные, актеры, музыканты и их потенциальная публика, военные, покупатели и покупательницы, мелкие чиновники и секретари, бесконечные классы российских должностных лиц — бегут туда-сюда, присваивают себе лихорадочный ритм улицы, встраиваются в него. Наконец, после обеда, в час пик, когда проспект наводняют модники и их подражатели, энергия и скорость достигают такой точки, что плывет в глазах и единство человеческого тела разбивается на сюрреалистические фрагменты:
Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, — пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх.
И так далее. Очень сложно представить, что думали современники Гоголя о подобных описаниях; они совершенно точно почти не говорили о них в печати. Однако с точки зрения нашего века текст поразителен: кажется, что Невский проспект перенес Гоголя из своего века в наш, словно даму, поднявшуюся в воздух на собственных рукавах. «Улисс» Джойса, «Берлин, Александерплац» Деблина, кубофутуристические городские пейзажи, дадаистский и сюрреалистический монтаж, экспрессионистское немецкое кино, Эйзенштейн и Дзига Вертов, парижская новая волна — все они берут начало в этой точке; кажется, что Гоголь из своей головы сочинил двадцатый век.
Затем Гоголь вводит, возможно, впервые в литературе, еще одну архетипическую модерную тему: особенную, волшебную атмосферу ночного города. «Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет». Старые, женатые, люди с обустроенными домами к этому времени пропадают с улицы; теперь Невский принадлежит молодым и жаждущим, а также, добавляет Гоголь, рабочим, которые, конечно же, возвращаются с работы позже всех. «В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста». В этот час Невский становится одновременно и более реальным, и более призрачным. Реален он тем, что теперь улицей правят более прямые и истинные потребности: секс, деньги, любовь; в воздухе витают непроизвольные намерения; мозаичные фрагменты складываются теперь в настоящих людей, которые жадно ищут других людей для исполнения своих желаний. С другой стороны, сама глубина и сила этих желаний искажают восприятие людей друг другом, как и их представление о себе. «Я» и «они» возвышаются в волшебном свете ламп, но их величие столь же недолговечно и безосновательно, как тени на стене.
До этого момента рассказ Гоголя разворачивается стремительно и охватывает всю панораму. Однако теперь он резко, крупным планом, сосредотачивается на двоих молодых людях, истории которых Гоголь собирается рассказать: художнике Пискареве и поручике Пирогове. Эта неожиданная пара прогуливается по проспекту, и тут их взгляды устремляются одновременно к двум разным проходящим девушкам. Они разделяются и направляются в противоположные стороны — от Невского проспекта в тьму боковых улиц, каждый стремясь нагнать девушку своей мечты. Следуя за ними, Гоголь сменяет сюрреалистическую виртуозность введения на более традиционное связное повествование, типичное для романтического реализма XIX века, в духе Бальзака, Диккенса и Пушкина, ориентированное непосредственно на людей и их жизни.
Поручик Пирогов — великий комический персонаж, памятник грубой спеси и гордыни (сексуальной, классовой, национальной), и поэтому его имя в России стало притчей во языцех. Преследуя девушку, замеченную на Невском, Пирогов приходит в район немцев-мастеровых; девушка оказывается женой швабского кузнеца. Товары, представленные в витринах на Невском, которые с удовольствием потребляло русское офицерство, производил целый мир иностранцев. В сущности, значение их для Петербурга и экономики России показывает несостоятельность и внутреннюю слабость страны. Но Пирогов этого не понимает. Он обращается с иностранцами так, как привык обращаться со слугами. Первым делом он возмущен, что муж, Шиллер, выражает негодование из-за заигрываний Пирогова с его женой, — в конце концов, разве Пирогов не русский офицер? Шиллер и его друг, сапожник Гофман, не выражают восхищения — ведь сами могли бы стать офицерами, останься они на родине. Тогда Пирогов оставляет Шиллеру заказ: с одной стороны, под этим предлогом он сможет сюда вернуться, а с другой стороны, Пирогов рассматривает этот заказ как своего рода взятку, чтобы муж посмотрел на дело с другой стороны. Пирогов назначает фрау Шиллер тайное свидание; однако, когда он приходит в другой раз, Шиллер и Гофман, к его удивлению, сбивают его с ног и вышвыривают вон. Офицер ошеломлен:
Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в Главный штаб. <...>
Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту.
В своей попытке завоевать немку Пирогов потерпел унижение, но из-за глупости так ничего и не вынес из поражения — и даже не осознал его. Через несколько минут Пирогов и вовсе забывает обо всей этой истории; он счастливо прогуливается по Невскому проспекту, размышляя, кого же покорит теперь. Сумерки скрывают Пирогова, двигающегося прямиком к Севастополю. Он — типичнейший представитель класса, правившего Россией до 1917 года.
Пискарев — фигура куда более сложная, и это, возможно, единственный по-настоящему трагический персонаж Гоголя, в которого он полностью вкладывает свою душу. Офицер погнался за блондинкой, а его друг, художник, влюбляется во встречную брюнетку. Пискарев воображает, что она знатная дама, и боится подойти к ней. Когда он все же решается, то узнает, что она проститука — к тому же недалекая и циничная. Пирогов, конечно же, понял бы это сразу; но Пискареву, влюбленному в красоту, недостает жизненного опыта и житейской мудрости, чтобы увидеть в красоте маску и товар. (И точно так же, как говорит нам рассказчик, Пискарев не способен относиться к своим картинам как к товару: он так радуется, когда люди ценят их красоту, что расстается с ними за куда меньшие деньги, чем они стоят на рынке). Молодой художник справляется с первой неудачей и теперь воображает, будто девушка — беззащитная жертва: он клянется спасти ее, вдохновить своей любовью, привести на свой чердак, где они смогли бы жить вместе — пусть бедно, но честно, во имя любви и искусства. Вновь он собирается с силами, приходит к ней и объясняется в чувствах — и, конечно же, она снова смеется ему в лицо. И она даже не может сказать, что кажется ей более смешным — идея любви или идея честного заработка. И тут мы видим, что сам Пискарев куда больше нуждается в помощи, чем она. Разбитый ощущением пропасти, пролегающей между его мечтами и реальностью, этот «петербургский мечтатель» перестает их различать. Он больше не пишет картины, погружается в опиумные видения, которые перерастают в зависимость, затем запирается в квартире и перерезает себе горло.
В чем смысл трагедии художника и фарса военного? Один из выводов рассказчик произносит напрямую в конце повести: «О, не верьте этому Невскому проспекту!» Но за одной иронией здесь скрывается другая. «Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы». Но ведь последние пятьдесят страниц рассказчик только и занимался тем, что глядел на эти предметы и давал поглядеть на них и нам. Он продолжает в том же духе и завершает историю словами, явно отрицающими ее. «Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций». Конечно же, вся история была об ассигнациях! «Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте. <...> Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо». Ведь — и на этом заканчивается повесть:
Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
Я столь обильно процитировал заключение, потому что оно показывает, как очаровательно Гоголь, скрывающийся за личиной рассказчика, играет со своими читателями. Кажется, что рассказчик толком не понимает, что он говорит и делает — но об этом прекрасно знает автор. Кстати, именно такая двойственная ирония окажется одним из главных способов восприятия модерного города. Снова и снова, в литературе, в популярной культуре, в наших повседневных беседах мы встречаем подобные голоса: чем больше рассказчик проклинает город, тем живее он описывает его, тем более привлекательным он его рисует; чем больше он отгораживается от города, тем глубже он ассоциирует себя с ним, тем яснее, что он жить без него не может. Разоблачение Гоголем Невского — это, по сути, способ «закутаться покрепче плащом своим» — скрыться и замаскироваться; но Гоголь позволяет нам увидеть под маской свой призывный взгляд.
Художника же и улицу связывают, прежде всего, мечты. «О, не верьте этому Невскому проспекту! <...> все мечта...». Так говорит нам рассказчик, поведав, как Пискарев погиб из-за своих же мечт. Но как показал нам Гоголь, мечты были движущей силой не только смерти этого художника, но и его жизни. Мы видим это в характерной гоголевской уловке: «Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. <...> Это был художник». Витиеватый тон этого предложения будто бы описывает художника с некоторым пренебрежением; но его суть для тех, кто умеет замечать, возносит художника на великие вершины: ведь в городе художник олицетворяет или же даже воплощает «лицо, являющееся нам в сновидении». Если это так, то тогда Невский проспект, как петербургская улица грез, — не только естественная среда обитания художника, но и в масштабе макрокосма его соавтор: художник выражает красками на холсте — или словами на печатном листе — коллективные мечты, которые улица воплощает во времени и пространстве на основе общего человеческого материала. Так что смертельная ошибка Пискарева не в том, что он вышел на Невский проспект, а в том, что он свернул с него — в сумрак обыденной жизни боковых улиц.
Если родство между художником и Проспектом пронизывает Пискарева, то пронизывает оно и Гоголя: коллективные мечты, придающее этой улице такую притягательность, служат главным источником также и силы его воображения. Когда в последней строке повести Гоголь приписывает тревожный, но призывный свет Невского демону, он лукавит; нам ясно, что если бы Гоголь воспринял этот образ буквально, попытался отогнать демона и отвернуться от света ламп, то уничтожил бы свою жизненную силу. Семнадцать лет спустя, в совершенном другом мире вдали от Невского, — в Москве, священном городе традиционной России, символической противоположности Петербурга — Гоголь именно так и поступит. Под влиянием недобросовестного, но фанатичного проповедника он придет к мысли, что вся литература — и прежде всего его собственная — есть порождение дьявола. Затем он обустроит себе жизненный финал не менее ужасный, чем тот, что он сочинил для Пискарева: сожжет неоконченные второй и третий тома «Мертвых душ», а затем постепенно заморит себя голодом [2].
Одна из главных проблем гоголевской повести — взаимосвязь между введением и двумя последующими рассказами. Истории Пискарева и Пирогова изложены языком реализма XIX века: ясно обозначенные персонажи совершают понятные и последовательные поступки. При этом введение — гениально фрагментированный сюрреалистический монтаж, более близкий по стилистике писателям XX века, чем самому Гоголю. Связь (и непохожесть) двух этих языков и способов переживания может быть объяснена через связь между двумя пространственно гомогенными, но духовно разобщенными аспектами модерной городской жизни. На боковых улицах, где петербуржцы ведут свою обыденную жизнь, вполне применимы привычные правила структуры и последовательности, времени и пространства, комедии и трагедии. Однако на Невском проспекте эти правила отменяются, привычные представления и границы сносятся, люди ступают в новый порядок пространства, времени и возможностей. Возьмем, к примеру, одно из наиболее поразительных модернистских описаний (это любимый отрывок Набокова и его перевод) в «Невском проспекте»: девушка, которая так поразила Пискарева, оборачивается, улыбается ему, и...
Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз.
Этот ослепительный пугающий образ напоминает погружение в кубистский пейзаж или воздействие галлюциногена. Набоков видит здесь пример художественного прозрения и гения, выходящего за любые социальные и эмпирические границы. Я бы с этим поспорил; мне кажется, что Невский проспект, наоборот, именно такие переживания и готовит любому, кто ступит на него: Пискарев переживает именно то, чего искал. Невский может неописуемо обогатить жизнь петербуржцев, если только они знают, как отыскать щедро предлагаемые им путешествия, а затем вернуться, сделать шаг вперед, в следующее столетие, а затем — назад. Однако тот, кто не сумеет объединить в своем сознании эти два городских мира, скорее всего, не сможет жить ни в одном из них — а значит, и жить вовсе.
«Невский проспект» Гоголя, написанный в 1835 году, появился почти одновременно с «Медным всадником», вышедшим двумя годами ранее; но миры этих двух произведений отличаются разительно. Первое бросающееся в глаза различие — Петербург Гоголя кажется полностью деполитизированным: на гоголевском проспекте нет места трагическому противостоянию обычного человека и власти. Это происходит не только потому, что чувственность Гоголя кардинально отличается от пушкинской (хотя, без сомнения, и поэтому тоже), но еще и потому, что он пытается выразить дух совершенно другого городского пространства. Ведь Невский проспект был единственным местом в Петербурге, которое развивалось независимо от государства. Возможно, это единственное общественное пространство, где петербуржцы могли взаимодействовать друг с другом, при этом не прислушиваясь к цокоту копыт Медного всадника. Это главный источник кипучей свободы, пронизывающей атмосферу проспекта, — особенно во времена николаевского правления, когда зловещее присутствие государства ощущалось во всем. Однако аполитичность Невского проспекта превращала его магические огни в бутафорию, а атмосферу свободы — скорее в мираж. На этой улице петербуржцы ощущали себя свободными индивидами; в реальности же они были загнаны в тесные социальные роли, навязанные самым жестко стратифицированном обществом в Европе. Эта реальность прорывается даже в обманчивый блеск проспекта. На одно мгновение, будто одним кадром в киноленте, Гоголь показывает нам неявные факты российской жизни:
Он [Пирогов] был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — но втайне ему очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы.
Здесь в своей обычной манере, будто бы ненароком, Гоголь показывает нам сцену, которая станет одной из основных в петербургской литературе и жизни: столкновение между офицером и мелким чиновником. Офицер, представитель российского правящего класса, требует от чиновника такого почтения, которое никогда не оказал бы в ответ. Пока он преуспевает — и ставит чиновника на место. Чиновник, прогуливающийся по Невскому проспекту, сбежал из «официальной» части Петербурга, от Невы и дворца, давящего «Медного всадника», но и здесь, в самой свободной части города, его затоптала миниатюрная, но столь же злонравная копия царя. Поручик Пирогов, заставляя чиновника подчиниться, насильно демонстрирует ему ограничения свободы на Невском проспекте. Модерная текучесть и подвижность проспекта оказываются всего лишь иллюзорной демонстрацией, ослепительной ширмой автократической власти. Мужчины и женщины на Невском проспекте могли и позабыть о российской политической жизни — и действительно, частично именно потому здесь и было приятно находиться, — но российская политика забывать о них совершенно не собиралась.
И все же старый порядок здесь менее прочен, чем могло бы показаться. Человек, построивший Петербург, был страшен в своей непоколебимой целостности; а власть XIX века, как показывает ее здесь (и во многих других своих произведениях) Гоголь, попросту глупа, столь пуста и ненадежна, что даже может показаться милой. Так, нервный поручик Пирогов вынужден доказывать свою власть и превосходство не только своим предполагаемым подчиненным и дамам, но и самому себе. Медные всадники поздних лет не просто миниатюры — они и вовсе сделаны из жести. Не только текучесть модерной петербургской улицы — мираж, но и прочность ее правящего класса. Это всего лишь первый этап столкновения офицерства и мелких чиновников; таких происшествий, приводящих к различным результатам, на протяжении столетия будет становиться все больше.
В других петербургских повестях Гоголя Невский проспект все так же выступает пространством для насыщенной, сюрреалистической жизни. Униженный и оскорбленный мелкий чиновник, главный герой «Записок сумасшедшего» (1835), не может выносить людей проспекта, но быстро сходится с его собаками, заводя с ними оживленные беседы. Позднее в сюжете повести у него получается без дрожи взглянуть на проезжающего мимо царя и поклониться ему, но лишь потому, что, совсем обезумев, он считает себя ровней царю — королем Испании [3]. В повести «Нос» (1836) майор Ковалев обнаруживает, что его нос разъезжает в карете по Невскому, и узнает, что нос теперь выше его рангом, а потому Ковалев не может заставить его вернуться. В самой известной и, возможно, наиболее гениальной своей петербургской повести, «Шинель» (1842), Гоголь не упоминает Невский проспект напрямую — но и все остальные места тоже, потому что главный герой, Акакий Акакиевич, совершенно отрезан от мира и не замечает ничего вокруг, кроме пронизывающего холода. Но, возможно, Невский — именно тот проспект, на котором Акакий Акакиевич в своей новой шинели ненадолго оживает: ненадолго, спеша на именины, куда коллеги пригласили его после появления в обновке, он с восхищением смотрит на роскошные витрины и проезжающих мимо великосветских дам; но все заканчивается в мгновение ока, когда шинель с него срывают. Все эти истории объединяет схожая мораль: без хотя бы минимального чувства собственного достоинства — «необходимого эгоизма», как сформулировал Достоевский в фельетоне для «Санкт-Петербургских ведомостей», — никто не может участвовать в превратной и обманчивой, но в то же время искренней общественной жизни Невского проспекта.
Многие представители петербургских низов боятся Невского. Но в этом они не одиноки. В журнальной статье под названием «Петербургские записки 1836 года» Гоголь сетует:
С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император [Александр I — М. Б.] любил Английскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда, только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие все в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте...
Получается, что весь высший свет отступает с Невского проспекта, так как опасается физического контакта с плебеями — мастеровыми и чиновниками. Как бы ни был прекрасен Невский они, кажется, готовы покинуть его и уйти в куда менее интересное городское пространство — длиною всего лишь в 1 260 м против 4 км Невского; всего с одной стороной; без кафе и магазинов — и все из-за страха. На самом деле, это отступление продлится недолго, и вскоре аристократия вернется к ярким огням Невского. Но теперь, чувствуя напряжение внизу, она будет беспокойна, не уверена в своей власти определить эту улицу как свою. Она боится, что вместе с другими ее настоящими и выдуманными врагами улица — даже или, скорее, именно самая любимая ее улица — на деле движется против нее.
[1] В основном я опирался на перевод Beatrice Scott (London: Lindsay Drummond, 1945). См. также David Magarshack (Gogol, «Tales of Good and Evil», Anchor, 1968) и переводы длинных пассажей в книге «Dostoevsky and Romantic Realism» Donald Fanger, pp. 106-12. Фэнгер описывает достоинство и важность этой повести и излагает интересный взгляд на нее. В значительной степени основываясь на работе советского ученого и критика Леонида Гроссмана, он прекрасно излагает мистику и романтику петербургского пейзажа и говорит об этом городе как о природном обиталище «фантастического реализма». Однако посреди петербургской романтики у Фэнгера не остается места для политической перспективы, которую я и пытаюсь показать.
[2] См. Nabokov, «Nikolai Gogol» (New Directions, 1944), главу 1, где он великолепно и жутко описывает последний поступок Гоголя. Там же Набоков обсуждает «Невский проспект», как обычно гениально, но не улавливая связи между воображаемым образом и реальным пространством.
[3] Этот отрывок, как и многие другие, был исключен из произведения цензорами Николая, которые уделяли повести особенное внимание, очевидно, испугавшись, что даже несдержанное поведение и фантастические устремления сумасшедшего спровоцируют неуместные и опасные мысли в психически здоровых людях. Laurie Asch, «The Censorship of Gogol's Diary of a Madman», Russian Literature Triquarterly #14 (Winter 1976), 20–35.