Герои даже водку не пьют и не курят
Фрагмент книги воспоминаний Вадима Абдрашитова
Фото из книги Вадима Абдрашитова «Воспоминания» (М.: Азбука, КоЛибри, 2025)
Книга воспоминаний Вадима Абдрашитова погружает нас в стихию позднесоветского и перестроечного кинематографа, однако внимательному читателю быстро становится ясно, что он имеет дело с высказываниями мастера, творившего вне времени и рассуждавшего о вечной природе искусства и человека. Предлагаем ознакомиться с отрывком из этого богато иллюстрированного издания.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Вадим Абдрашитов. Воспоминания. М.: КоЛибри, 2025. Содержание
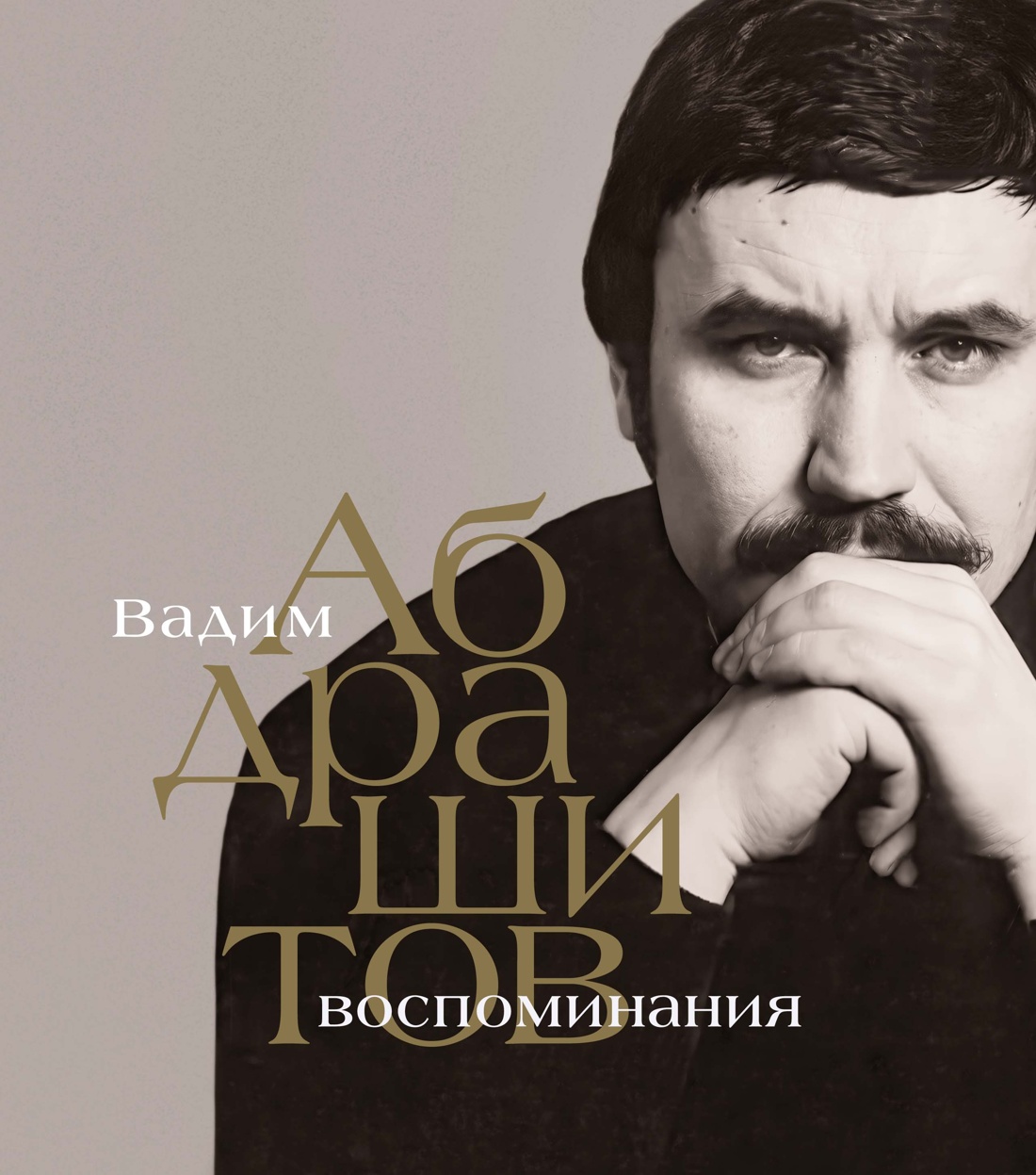
«Что такое искусство? Прежде всего стиль, нечто неуловимое, что отличает настоящего художника от просто хорошего профессионала. Что-то, что ты не можешь описать словами, но что присуще тому или иному мастеру. Вадим был именно таким человеком. У него был свой стиль — неповторимый, самобытный. Можно отрезать титры, и все равно понятно, что это кино Вадима Абдрашитова».
Карен Шахназаров
«Говоря о Вадиме Абдрашитове, можно было бы ограничиться тем, что это был достойнейший человек и замечательный кинорежиссер. Это не всякий раз бывает и не всякий раз совпадает. Тут — удача. Вадик сохранил свою жизнь, он ее ничем не запятнал, и, более того, он не менял конституцию своей родины, то есть родина этого человека — он сам. То есть, собственно, как у нас всех, прежде всего мы сами родина. Но очень важно, чтобы, выбрав однажды точную конституцию своего поведения, человеческого достоинства, — не изменять ей.
Он не отвечает ни на какие вопросы, он их задает. Дает возможность нам подумать, иногда обрывает свою мысль, а ты ее продолжаешь сам. Какие-то возникают странные вещи, которые тебе в его фильмах кажутся абсолютно логичными, точными. Он любит актеров, и актеры у него очень хорошие, непридуманные и обаятельные, как-то, видимо, привязывался он к хорошим актерам. Я думаю, что так, как Борисов сыграл у него, даже и не знаю, где он еще так сыграл.
Такая ирония необидная в нем присутствовала, и почти всегда самостоятельное мнение какое-то. Даже если он говорил вещи очевидные, все равно ты подозревал, что он думает неординарно, такое у него было качество интересное».
Юрий Рост
«Актер у Абдрашитова чувствовал себя гораздо талантливее, значительнее, чем он мог быть на самом деле. Команда была потрясающая, артисты были потрясающие. Вадим умел точно выбирать исполнителей. Это было всегда правильное решение. Это всегда было правильное назначение.
Счастье было невероятное, потому что молодость, потому что лето, потому что прекрасная работа. И как приятно было находиться рядом. Просто слушать его. Видеть его реакцию на твои слова, на слова других людей».
Сергей Маковецкий
Вадим Абдрашитов о фильме «Охота на лис»
Режиссер на разных стадиях работы практически постоянно находится в состоянии мучительного дуализма. Представляешь и ощущаешь будущий фильм эмоционально точно, но это свое эмоциональное ощущение нужно объяснить простыми, грубыми словами всем тем, кто с тобой работает: оператору, художнику, актерам. Но, формулируя задачу в слове, огрубляешь чувство.
В сценарии было много достоинств при чисто внешней непритязательности и подчеркнутая простота сюжета. Но простая история позволяет аккомпанировать себе совсем непросто, объемно, насыщенно, потому что внешне незамысловатый сюжет, как каркас, все равно сохраняется. Поэтому можно было без ущерба для него ввести обилие пробегов, музыки, красоту русских пейзажей, их цвет, осенний, зимний… Можно было наполнять эту картину природой. Это все то, что подсказала жизнь. Скажем, когда снимаешь пробег по лесу, то он становится не просто одной из сюжетных «тем», но самим содержанием. Вообще, я и не думал, что «Охота» окажется столь насыщена замечательными пейзажами. Природа стала слагаемым смысла фильма! Умозрительно картина представлялась более интерьерной, более пространственно замкнутой. Но просмотр первого же материала подсказал, уточнил и расширил экран. В него настойчиво входила природа: лес, поля, речка, проселки, и стало ясно, что, раз картина начинает требовать расширения объема, более широкого выхода на природу, надо ей подчиниться и подправить замысел.
Второй момент коррекции фильма — перезапись, ты вдруг чувствуешь, что зазвучавший музыкальный кусок совершенно по-новому окрашивает эпизод, заставляя его продлить или, наоборот, сократить. Во время перезаписи возникают какие-то дополнительные, неожиданные нюансы в уже знакомом материале, за что я люблю этот процесс, когда никого уже нет вокруг, а ты один на один с материалом и звуком, соединяемым с изображением.
Это самое замечательное время в работе над картиной. Написание режиссерского сценария и перезапись — вот два самых лучших момента! Потому что когда ты пишешь режиссерский сценарий, то как бы снимаешь в голове некий идеальный фильм. Когда идет перезапись, то на твоих глазах что-то оживает, возникает какое-то особое дыхание, и новые реалии требуют перемен в сценарии. Это нормальный процесс.
Вадим Абдрашитов о фильме «Парад планет»
В «Параде планет» возникает какая-то неожиданная, трудно прощупываемая природа киноматерии. Полуграмотная критика потом зачастую задавалась вопросом, с чего это после «Остановился поезд» авторы неожиданно перешли на другой, условный, метафорический язык? Самым сложным моментом при этом было определиться с природой условности и степенью ее. Это я сейчас все понимаю и могу объяснить, но тогда мы входили в совершенно новый материал, точнее — в способ его освоения.
Мы входили в картину с большим трудом. Совершенно по-новому пришлось подбирать актеров. В фильме ведь нет характеров, нет развития этих характеров, есть только их обозначения, которые может сыграть любой нормальный профессиональный актер. Это было сделано откровенно, это в природе картины. Борисов, например, играл вовсе молчавшего человека.
Моя задача заключалась в том, чтобы собрать группу, команду, банду. Эти семь человек. Вопрос пасьянса — «сходится» или «не сходится» из этой семерки группа? Потому что каждый из них вообще-то мог бы сыграть любую из этих ролей. Но пробы были посвящены раскладу этого пасьянса. Например, как они смотрятся вместе, сидя у костра. Они сидели как бы у костра в павильоне и о чем-то между собой разговаривали, а мы следили за ними через камеру, наблюдали, выясняли, как что складывается между ними и как они вместе смотрятся. Во время кинопроб актеры практически переиграли все роли. Например, Борисов гениально делал то, что потом делал Жарков, гениально играл этого алкаша в кепочке, просто купался в этой роли.
Очень сложно было работать, сложно делать каждый кадр. Например, ассистент по реквизиту спрашивал меня о самых простых вещах, связанных, однако, с самой природой картины: «Вадим Юсупович, а чего это они так налегке приехали на сборы? У них же должен быть какой-то чемоданчик, портфель или рюкзак с вещичками… Ну как же без них?» Я отвечаю, что ничего такого героям картины не нужно, вот такими не обремененными бытовой поклажей они отправляются в путь. Но реквизитор человек ответственный: «Куда же они идут-бредут безо всяких вещей? Это неправда!»
Тогда я для самопроверки говорю: ну дайте им какие-то вещи, и пошли! И герои пошли, и стало очевидно, что это проход из другой картины. И это было всем ясно. Не то чтобы бытовая деталь была совсем плоха, но она не имела никакого отношения к тому, что мы делали. Так что командую: «Убрать все вещи!»
Тут вступает художник по костюмам: «Как же так? Они просидели всю ночь у костра, а вы почему-то заставляете гладить им рубашки! Они что, так до конца картины и будут ходить в глаженых рубашках?»
Речь идет о таких вроде бы малозначимых нюансах, но они определяли эту картину. Ее природу условности. Хотя решения, о которых я говорю, незаметны в картине для зрителей, к счастью. Это всего лишь частности, которые остаются в подкорке, работая на иной, не бытовой образ реальности.
Это и бесило цензуру. Нет ничего, чтобы схватить за руку. Герои «даже водку не пьют и не курят». Самая трогательная из высказанных претензий, которые я услышал, звучала следующим образом: «Что это такое? Ну ходят они, ходят… Хоть бы порыбачили, выпили». Но понятно было, что претензия была не к содержанию, а к эстетике, в которой они не могли ни рыбачить, ни водку пить. И эта какая-то чужеродная странность заводила цензоров в тупик, заставляя предположить, что у нас там что-то не так, есть что-то подспудное, но что? Цензуру бесила сама неуловимость эстетики, не управляемой их руками. И когда уже судьбу картины решал министр Ермаш, он попросил только добавить хоть что-то, хотя бы объясняющий титр «Почти фантастическая история», чтобы, мол, подготовить зрителя к какому-то странному зрелищу, в котором герои странно бродят среди женщин… Кстати, что это за женщины? Тогда еще впаяли за кадром текст-вопрос: «Это текстильный городок?» То есть «пояснили» зрителю, чуть ухудшив, конечно, картину, но ничего в принципе в ней не изменив.
Но это на самом деле было уже позднее, а пока нужно было сдавать картину, и начальство, растерявшись и помня скандалы по «Охоте» и «Поезду», решило собрать худсовет, на котором уж наши коллеги потоптали нас от души. Им показали картину, дали команду «фас», и они устроили разнос. Худсовет оправдал возложенные на него надежды, осуществил их руками моих дорогих коллег.
Я никогда не вступал в диалог, обещал все поправить, хотя ничего не делал. Обещал подумать. Но вообще воспринимал все эти неприятности как должное. Понимал, что власть давала мне деньги на картины, и что же странного, что не принимала потом, скажем, «Поезд». Что же другого ожидать? Поэтому я всегда относился к сдаче картины просто как к этапу своей работы, части профессии.
* * *
Наука развивается. Она развивается, да еще как-то ускоренно, по экспоненте, а искусство нет, не развивается. Если бы человек, природа человека, константы его бытия менялись, то тогда бы, наверное, менялось бы и искусство. А когда мы живем с постоянной, нормальной температурой 36,6 тысячелетиями и испытываем одни и те же инстинкты, то отчего может изменяться искусство? Есть какие-то формы формального, извините за тавтологию, порядка. Что-то меняется, потом что-то возвращается. И в этом смысле искусство, конечно, является константой. В том числе и кинематограф. То, что говорили нам наши мастера, а им говорили их мастера, разумеется, это все остается в силе, потому что задача одна и та же: рассказать о человеке. Правдиво рассказать о человеке. Разными способами, разными жанрами, разной стилистикой, но рассказать о человеке. Рассказать, и это самое интересное, о его характере. Если удастся, то даже образ создаться может. Задачи-то прежние остаются, инструментарий практически тот же самый. Ну что-то вносит жизнь новое. Что? Я не могу понять. Меняются костюмы, способы общения, меняются слова, но константы жизни остаются. Иначе жизнь бы закончилась.
Кинематограф сам себя только ищет, только вырабатывает свой язык. Потенциал кинематографа колоссальный, потому что это запись движущегося объекта, запись движущейся мысли, если хотите. И он все еще находится в тисках и театра, и литературы. Вырабатывают свой язык отдельные корифеи. Вы видите некую странность, особенность, и вы понимаете, что вам не нужны титры — это Бергман. А это, ясное дело, Феллини. А это Чаплин — там не нужны слова, я понимаю, что происходит, за счет пластики, за счет того, что он делает. Они выработали свой язык, который является частью кинопоэтики вообще.