«Если обращаться с людьми как с животными, они и будут вести себя как животные»
Из книги «Женщины в бою»
Пока мужчины убивали друг друга на полях сражений, женщины прикладывали массу усилий для того, чтобы этот процесс удавался на славу, — такой вывод можно сделать из галереи ярких портретов участниц войн XVII–XX веков, собранных историком Анной Ларсдоттер. Публикуем фрагмент главы «О том, как выбраться из ада с помощью статистики», который посвящен трудам и дням Флоренс Найтингейл, знаменитой сестры милосердия и общественной деятельницы времен Крымской войны 1853–1856 годов.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Анна Ларсдоттер. Женщины в бою. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025. Перевод с шведского Ю. Григорьевой
«Немногим мужчинам — не говоря уже о женщинах — довелось увидеть столько ужасов войны, сколько видела я».
Флоренс Найтингейл
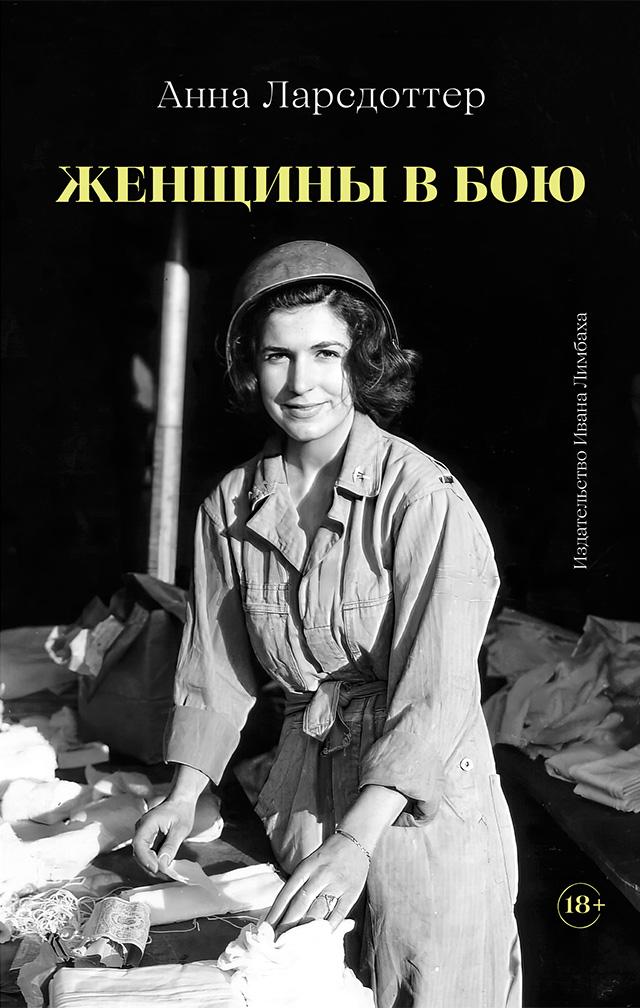
Кампания 1853–1856 годов стала последней войной, в которой британских военных сопровождали жены. Хотя правила предусматривали отправку не более шести жен на сотню мужчин, в некоторых полках их было значительно больше. Их тайком проводили на борт, или же они появлялись на судне открыто, потому что командиры смотрели на это сквозь пальцы. Многие из них добирались до Галлипольского полуострова в Турции в таком тяжелом состоянии из-за желудочной, морской или другой болезни, что армия больше не хотела иметь с ними дела. Некоторых отправляли обратно в Скутари на берегу Босфора или в Варну, которая служила местом сбора англичан перед Крымской кампанией. Другим удавалось вопреки всему продолжить путь, ночуя под открытым небом в лохмотьях и без еды. В Скутари некоторые женщины влачили полулегальное существование в нечеловеческих условиях, постоянно пили арак и не могли выбраться из полнейшей нищеты. Их прозябание отражало запущенность британской армии, чьи провальные действия в Крыму военные историки обычно описывают как непрофессиональные и неудачные с точки зрения тактики и логистики. Медицинская помощь в войсках находилась на совершенно примитивном уровне. Это и предстояло исправить Флоренс Найтингейл.
Найтингейл родилась в 1820 году во Флоренции — городе, в честь которого ее назвали. В это время ее состоятельные родители совершали свадебное путешествие по Европе, которое растянулось на несколько лет. Старшая сестра Флоренс тоже родилась в Италии. Девочки росли в богатой семье с глубокими традициями — вскоре эти устои пойдут вразрез с профессиональными амбициями Найтингейл. В детстве у нее сложились особенно хорошие отношения с отцом. Уильям Эдвард Найтингейл понимал, что дочь одарена, и поощрял ее интерес к учебе. Он сам обучал ее латыни, греческому и математике, в которой девочка особенно преуспела. Впоследствии Найтингейл станет выдающимся статистиком.
Мать хотела для дочери обычной жизни и надеялась выдать ее замуж за представителя богатой и знатной семьи. Однако Флоренс рано решила, что посвятит себя чему-то более увлекательному, чем обязанности хозяйки и домашние хлопоты. Похоже, ее интерес к медицине развился постепенно — вероятно, в первую очередь из-за противостояния с матерью. И разумеется, из-за неприятия правил викторианского общества. Мать была глубоко потрясена, когда Флоренс отвергла предложение руки и сердца одного из богатейших наследников Англии.
Узнав об институте диаконис в немецком Кайзерсверте, Найтингейл поняла, что именно станет делом ее жизни. Там женщин обучали оказанию элементарной медицинской помощи, и основатели института, Фредрика и Теодор Флиднер, были полны решимости повысить статус сестринского дела, чтобы им могли заниматься и респектабельные женщины.
В то время лечение вне дома не вызывало доверия. Больницы существовали уже около ста лет (в Швеции первой была больница ордена Серафимов, основанная в 1752 году), но на деле их персонал по большей части не оказывал медицинскую помощь, а лишь менял еловый лапник на полу, опорожнял ночные горшки, проветривал помещения и разносил еду. Лечением занимались врачи-мужчины и студенты-медики. Алкоголь лился рекой как среди пациентов, так и среди персонала, а женщин по привычке принимали за проституток, независимо от того, являлись они таковыми или нет. Иными словами, работа в этих учреждениях ассоциировалась с отсутствием морали, пьянством и тем, что «порядочным» людям даже в голову не придет.
Хотя Найтингейл нравилась идея Флиднеров, она говорила, что за три месяца, проведенные в Кайзерсверте, так ничего и не узнала о лечебном деле. Зато узнала многое об организации медицинской помощи. Эти знания пригодились ей, когда осенью 1854 года по инициативе британского военного министра ее направили в Скутари. Задача, которая отпугнула бы и более опытных людей, заключалась в том, чтобы попытаться переломить катастрофическую ситуацию с оказанием медицинской помощи на войне, где британские солдаты мерли как мухи. Больных и раненых на полях сражений в Крыму отсылали в Скутари, что означало восьмидневный переход по Черному морю. В этом богом забытом месте их фактически бросали на произвол судьбы в переполненных бараках, где «не было простейшего оборудования, которое найдется в любой больнице для бедняков». Так писал военный корреспондент Уильям Рассел в статье, возмутившей британскую общественность. И далее там же: «Манера обращения с больными и ранеными достойна лишь дикарей Дагомеи . <...> Измученные отставники, призванные оказывать неотложную помощь, совершенно бесполезны, и дело не только в отсутствии военных врачей, но и в том, что нет и помощников или медсестер, которые могли бы выполнять распоряжения врача или обеспечить уход за больными между его визитами».
Существует множество описаний военных действий на Черном море в 1853–1856 годах, а вот свидетельств трагедий и драм, разыгрывавшихся в казармах и медицинских учреждениях, — единицы. Одно из них принадлежит Эллен Батлер, жене солдата из Портсмута, которая перемещалась с 95-м полком. В 1854 году Батлер находилась на борту переполненного госпитального судна у берегов Балаклавы. «Там я едва не ослепла от слез», — записала она вскоре после прибытия. Батлер было приказано ассистировать при ампутации ноги и держать руки пациента. Она зажала их железной хваткой, успокаивая не только пациента, но и себя. Услышав скрежет пилы, она потеряла сознание, а когда очнулась, хирург ее отругал. Нехватка перевязочных материалов была настолько велика, что Батлер приходилось рвать на бинты свои нижние юбки и делать компрессы из старых мешков из-под сухарей. Она сама делала хирургические нити, натирая упаковочные шнуры смесью животного жира и дегтя, что предохраняло их от гниения.
Для первой поездки в Крым Флоренс Найтингейл набрала тридцать восемь женщин-добровольцев. Многие из них были монахинями. Отбор велся строго, и, несмотря на обилие заявок, приняли лишь некоторых. Проделав долгий путь, женщины прибыли в военные госпитали в Скутари, где им пришлось разгребать груды ампутированных конечностей. До этого в Скутари не было медицинского персонала, только необученные санитары и несколько солдатских жен, которые помогали немногочисленным фельдшерам. Не было ничего — ни чистой воды, ни бинтов, ни таких элементарных вещей, как столовые приборы или тарелки. Есть приходилось руками. Больные лежали плотными рядами прямо на полу, между ними стояли ведра с нечистотами. Первоначально сырые и грязные помещения предназначались для размещения солдат, но те через несколько дней предпочли разбить лагерь под открытым небом. Большинство из них страдало от холеры, дизентерии, тифа и различных лихорадок — по данным на январь 1855 года, из двадцати пяти тысяч британских солдат болела почти половина, а раненых было немногим больше сотни. Крымская война стала последней большой войной, в которой количество больных превышало число раненых в бою.
Обладая нечеловеческой энергией и авторитарным стилем руководства, Найтингейл взяла дело в свои руки. Она знала, что болезни вызывает грязь, поэтому ее команда начала с уборки. Заново вырыли или очистили колодцы (в одном из них нашли две лошадиные туши), вычистили отхожие места, вымыли полы, стены и потолки. Устроили прачечную, раздобыли моющие средства — ничего подобного раньше не делалось. Затем Найтингейл занялась продовольственным снабжением — например, организовала закупку овощей и фруктов, чтобы предотвратить цингу.
Поначалу Найтингейл выполняла всю эту работу, не считаясь с мнением фельдшеров-мужчин и прочего персонала. Те полагали, что щетки и моющие средства не имеют никакого отношения к охране здоровья. Санитары не желали и пальцем пошевелить без надобности. Главный врач Джон Холл был убежден, что медсестры балуют пациентов. Хороший уход и качественное питание задерживают их в лазарете дольше необходимого. Найтингейл парировала: «Доктор Холл, если обращаться с людьми как с животными, они и вести себя будут как животные. Относитесь к ним как к храбрым, порядочным христианам, каковыми они, по моему мнению, являются, и увидите результат».
Сегодня нам сложно понять, насколько действия новой военной медсестры бросали вызов тогдашней системе. Ведь система сопротивлялась профессионализации традиционно женской сферы «ухода за больными». Разве не все женщины так или иначе являются «медсестрами», они же испокон веков заботились о здоровье своих близких? А теперь им за это еще и платить будут? Да, безусловно, будут, утверждала Флоренс Найтингейл, которая тоже не хотела работать бесплатно. Но испытанием были и сами условия работы, поскольку медсестры ухаживали за мужчинами иногда в очень интимных ситуациях. Это означало, что поначалу их воспринимали лишь немногим лучше проституток. Для врачей специфика многих медицинских процедур также служила причиной — или скорее предлогом — для того, чтобы убрать женщин из военных госпиталей. Так, один врач писал в журнале «Американ медикал таймс» в 1861 году: «Представьте себе впечатлительную и утонченную особу, которая помогает неотесанному солдату дойти до туалета, выносит за ним судно, накладывает повязку, фиксируя дренаж, или выполняет другие подобные задачи, которые очень трудно поручить женщине, несмотря на постоянную необходимость и важность такой работы в условиях военного госпиталя... По нашему скромному мнению, женщины решительно не подходят для выполнения этих задач. Однако их можно использовать для раздачи назначенных лекарств или для утешения, необходимого каждому пациенту».

Это беспокоило и многих офицеров, которые воевали в Крыму, хотя они наверняка знали, насколько работа медсестер улучшает санитарные условия. Больше всего их волновало, как бы к Найтингейл не присоединились их собственные сестры, жены или матери. Один капитан писал домой: «Если какая-нибудь умалишенная готова приехать сюда работать медсестрой, сделайте все возможное, чтобы как можно скорее надеть на нее смирительную рубашку». Подобные предупреждения со стороны встревоженных родственников-мужчин эхом разносятся сквозь века военной истории — как мы увидим, звучали они и во время Второй мировой войны, когда американцы настоятельно не рекомендовали подругам, сестрам и женам вступать в женские добровольческие отряды.
Однако в Крымской войне победителями вышли именно медсестры и их заступники. Такой успех во многом объяснялся тем, что их усилия вполне вписывались в господствующие тогда представления о мужском и женском началах как дополняющих друг друга противоположностях. И на войне считали необходимым использовать уникальные свойства и таланты женщин — их нежные руки, тихие утешительные голоса, врожденную способность заботиться и успокаивать.
Однако в суровых реалиях военных госпиталей в Скутари, Балаклаве и Константинополе требовались в основном другие качества: дисциплина, физическая сила и крепкая психика. Ежедневные и ежечасные испытания, которым подвергались женщины, были не для слабонервных: кишащие червями раны, кровавая диарея, гниющие от гангрены конечности и постоянные ампутации. Не говоря уже о мухах, вшах и крысах, которые вторгались в казармы подобно вражеским армиям.
И все же миф о Флоренс Найтингейл — озаренной светом фигуре, шествующей по коридорам военного госпиталя в Крыму с лампой в руках, — имел под собой основание. Своим появлением она действительно вселяла в мужчин надежду, дарила утешение брошенным на произвол судьбы пациентам. Даже на родине, в Англии, многие семьи чувствовали себя немного спокойнее, зная, что за ранеными ухаживает именно она. Однако следует помнить: причиной, по которой Найтингейл — часто в одиночестве — совершала вечерний обход коридоров с лампой в руках, служил запрет персоналу входить в палаты после половины девятого, введенный ею из опасений, что медсестры поддадутся на легкомысленные уговоры солдат. Некоторых женщин, работавших под ее началом, едва ли можно назвать образцом добродетели: они ссорились между собой, напивались, флиртовали как с пациентами, так и со здоровыми солдатами и позволяли тем за собой ухаживать. Не считая схватки с грязью и военной бюрократией, борьба с пьянством была, пожалуй, самым трудным сражением, которое приходилось вести Найтингейл и ее соратницам во время Крымской войны.
По сравнению с союзниками-французами, а также русскими британцам плохо давалось планирование военных действий. Французское военное руководство совершенно иначе подходило к стратегии и логистике, оно было лучше оснащено всем, от лошадей и палаток до продовольствия и медикаментов. Женам солдат запрещалось сопровождать мужей, но в армию брали кантиньерок — активных и отважных женщин, обладавших деловой хваткой, которым всегда удавалось закупать и распределять лучшие продукты питания. Одетые в экзотические костюмы со шпорами и со шляпками на головах — некоторые носили фески с кисточками, — они представляли собой завидное зрелище для англичан. Кроме того, французы привлекли большую группу французских сестер милосердия из монастырей в Константинополе и Смирне, которые ухаживали за больными и ранеными и обеспечивали их перевязочными материалами и медикаментами, то есть всем тем, чего не было у англичан. При российской армии существовала похожая община сестер милосердия, которая внесла огромный вклад в помощь больным и раненым во время войны.
Однако британская армия сама виновата в том, что упорно отказывалась нанимать женщин в качестве рабочей силы во время военной кампании. Командование действовало так же, как и при столкновении с проституцией в гарнизонах: не давало согласия, но и не запрещало. Солдатским женам создавали невыносимые условия, не позволявшие им при желании оставаться дома. Женщины, проделавшие долгий путь в Крым, находились там без содержания, их задачей было привлечь мужчин к службе и предотвратить дезертирство. Но, добравшись до места и столкнувшись с неприглядной крымской действительностью, мужчины часто начинали стыдиться этих женщин, которые следовали за армией в лохмотьях, обветренные и часто пьяные. За ними двигались истощенные дети.
Для Флоренс Найтингейл огромное значение имела униформа. Отчасти из-за упомянутых выше солдатских жен Найтингейл решительно не хотела, чтобы кто-то ненароком принял за них медсестер. Строгая униформа обеспечивала профессиональный статус, который сопровождал женщин даже в свободное от службы время. Одежда была простой, без отделки: серые твидовые платья, серые жакеты, короткие накидки (серого цвета), клетчатые фартуки и черные чепчики, которые запрещалось украшать лентами и цветами. Многим из первых военных медсестер такой стиль не нравился — они считали, что униформа делает их похожими на прислугу. Со временем отношение изменилось, и большинство медсестер и участниц войны полюбили одежду, которая символизировала самостоятельность, профессионализм и авторитет. Женщина в форме — уже не просто сестра, дочь, мать или жена. Теперь она не зависит от мужчины. За ней стоит что-то более значительное и важное — вооруженные силы и, следовательно, государство.
Вместе с тем женщина в униформе стала провокационной фигурой. Она пользовалась привилегиями, ранее доступными только мужчинам, — обрела субъектность и требовала послушания. Благодаря новаторским усилиям Найтингейл женщина могла беспрепятственно выбрать профессию медсестры и требовать за это жалованье.
Ассоциации с независимостью и свободой, а впоследствии также с гражданственностью и военной службой распространили моду на униформу во многих слоях общества второй половины XIX века. Это увлечение охватило как мужчин, так и женщин. Носить форму стремились королевы и принцессы — в качестве примера можно привести шведскую королеву Викторию Баденскую, которая была почетным командиром одного из померанских полков и любила появляться в офицерском мундире.
Спустя несколько месяцев тяжелой работы удалось существенно повысить уровень гигиены, качество питания и стандарты обращения с больными и ранеными в Скутари. Но смертность от болезней оставалась высокой. В качестве эксперимента военное командование решило отправить часть больных на греческий остров Корфу, где также располагался британский военный госпиталь. Возглавляла его одна из самых видных армейских фигур Викторианской эпохи, хирург Джеймс Миранда Барри. Задолго до Найтингейл она внесла существенный вклад в профилактическую медицину и гигиену, но не обрела такого же звездного статуса.
Барри, родившуюся в 1795 году, часто называют первой в Великобритании женщиной-врачом. Однако, как отмечают многие, совсем не очевидно, что этого эксцентричного человека следует считать женщиной — по-видимому, Барри с юных лет считала себя мужчиной. Более поздние исследования предполагают, что Барри была интерсекс-человеком, то есть ее нельзя однозначно отнести к какому-либо полу. Родившись под именем Маргарет Энн Балкли, Барри с десяти лет превратилась для окружающих в мальчика. У нее были именитые друзья и покровители, которые хранили эту тайну с самого начала, а возможно, даже сами приняли решение о том, что Маргарет будет мальчиком. Дядя Барри, известный художник Джеймс Барри, при помощи венесуэльского революционера Франсиско де Миранды и одного эксцентричного лорда устроил смышленую и любознательную племянницу — под именем Джеймс — в престижную медицинскую школу в Эдинбурге. Девочек туда не принимали. Джеймс окончил школу в 1812 году, когда ему было семнадцать лет. Впоследствии он служил военным врачом, в том числе в Южной Африке и Вест-Индии, где внес значительный вклад в лечение больных оспой. Некоторое время Барри также работал врачом на острове Святой Елены, где ранее находился в ссылке Наполеон.
Джеймс Миранда Барри славился не только своим профессионализмом, но и грубым, несдержанным нравом. Он несколько раз встречался с Флоренс Найтингейл и оставил о себе неприятное впечатление — Найтингейл отклонила предложение Барри о работе в Скутари. Барри оскорбил Флоренс, и она в ответ назвала его самым безжалостным человеком, с которым ей довелось познакомиться за все время службы в армии.
Однако трудности в общении не помешали Джеймсу Миранде Барри успешно реформировать медицинскую помощь военного времени. Он рано понял важность качественной, свежей пищи, приготовленной на чистых кухнях, и, например, ввел в рацион груши как средство профилактики цинги. Во время работы в гарнизонном госпитале в Кейптауне Барри провел кардинальные реформы, позволившие снизить смертность среди пациентов. В отличие от многих врачей того времени, Барри никогда не обходил вниманием бедняков, чернокожих, прокаженных и других представителей маргинализированных слоев населения. В парадных гостиных Барри был известен своим особым стилем, яркой одеждой, вегетарианством и собакой Психеей, которая всегда следовала по пятам за эксцентричным хозяином.
За два месяца Джеймсу Миранде Барри удалось снизить смертность среди своих пациентов почти на девяносто процентов по сравнению с госпиталями в Скутари.
Тайна Барри была раскрыта только после его смерти от дизентерии в 1865 году. Пожелание выдающегося хирурга, чтобы его похоронили без дополнительного освидетельствования, в той одежде, которую он носил, не удовлетворили. О том, что прославленный доктор Барри «оказался женщиной», стало известно из газет. Многие, в том числе и Найтингейл, заявили, что давно догадывались об этом.
Возможно, именно яркая внешность и характер Барри не позволили ему добиться той же славы, что и Флоренс Найтингейл. Миниатюрный и стройный, тонкоголосый, в ботинках на толстой подошве и в пиджаке с подплечниками, Джеймс Миранда Барри просто оказался слишком странным для традиционного викторианского общества.
При этом достижения Флоренс Найтингейл были, конечно, более фундаментальными. За время работы в Скутари она записывала не только показатели смертности, но и причины смерти и продолжительность лечения отдельных пациентов. С помощью такой статистики она смогла доказать, что работа медсестер значительно повысила шансы солдат на выживание. После окончания войны статистические расчеты продолжились. В 1858 году по заказу военного министра Найтингейл написала отчет о состоянии британской военной медицинской помощи. Результатом совместной работы со множеством экспертов стал документ объемом свыше восьмисот страниц, который показывал, в частности, как при помощи более тщательного планирования и относительно простых гигиенических мер можно было избежать многочисленных смертей в Крыму. Отчет имел успех и вызвал большой общественный резонанс.
Два года спустя Найтингейл стала первой женщиной, избранной членом Королевского статистического общества.
Ее деятельность — как практическая, так и теоретическая — подтвердила, что с середины XIX века участие женщины в войне вышло на новый уровень. В предыдущие века присутствие на фронте было оправдано браком с солдатом, теперь же требовался статус незамужней. Вскоре женщины будут воевать исключительно как профессионалы, в основном в качестве медсестер. Но не будем забегать вперед.