Джонатан Литтелл, «В комнатах»
Перевод с французского Михаила Шелковича
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Джонатан Литтелл. Рассказы Фата-морганы. СПб.: Jaromír Hladík press, 2023. Перевод с французского Михаила Шелковича и Денса Диминьша
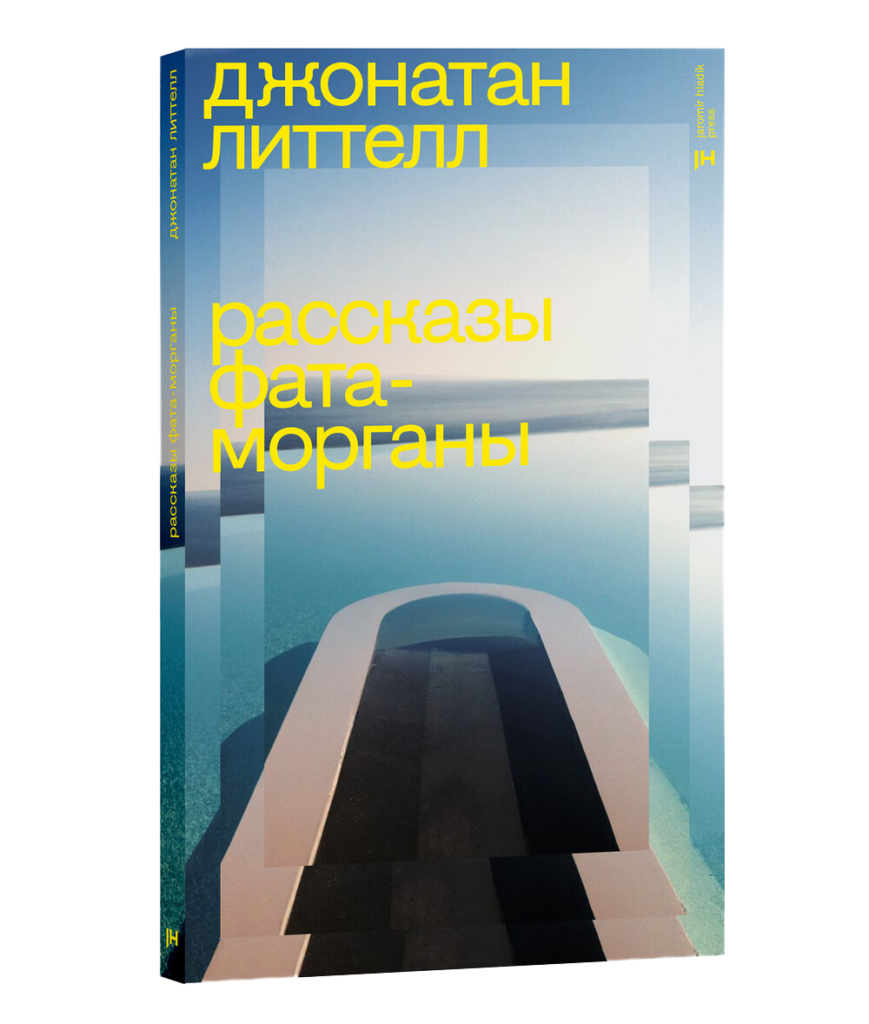 Пронзительный детский смех ворвался мне в уши, и я отвлекся от чтения. Я вздохнул, заложил книгу пальцем и с досадой откинул голову на спинку шезлонга. К продолжающимся взрывам смеха присоединился резкий крик; из дома донеслись зовущие женские голоса. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на том, как припекающее солнце покалывает мне лицо. Но у меня не получалось, и я снова открыл глаза. Я сидел в глубине сада; у моих ног слабо колыхалась трава, большой зеленый треугольник света отпечатался на более темном зеленом живой изгороди и высоких, раскидистых, словно вырезанных на белесом небе, деревьев, чью листву шевелил слабый ветерок. Сзади с радостными возгласами ко мне приближалась шумная орава; мимо моего шезлонга пронесся ребенок, опрокинув маленький столик, на котором стоял мой, к счастью, пустой стакан. Я снова вздохнул, поставил ноги на землю и наклонился, чтобы поднять стол и поставить стакан обратно. Рядом с ним я положил свою книгу, чей холщовый переплет мятного цвета выделялся на темном дереве стола словно маленький прямоугольник света. Дети, которые теперь были совсем рядом, с криками катались по лужайке; поодаль маленькая светленькая девочка в коротком горчичном платье, растянувшись на животе и опираясь на локти, задумчиво наблюдала за ними с длинной травинкой в зубах. Я обогнул стороной их всех и вошел в дом. Сумрак, в который были погружены комнаты, контрастировал с дневным светом; на миг ослепленный, я зажмурился и двинулся по коридору на ощупь. Солнечный свет косыми лучами падал через высокие окна, прочерчивая тонкие полоски на вощеном полу. Я нерешительно ощупывал пальцами кремовые обои с цветочным узором, перевитым золотыми нитями, пока не остановился у вставленной в рамку репродукции портрета надменной юной дамой былых времен, чье бледное и строгое лицо напоминало маску из слоновой кости, наклеенную поверх всех эмоций и навсегда скрывшую тайные движения ее тела. В глубине коридора снова раздались и стали приближаться детские крики. Все казалось мне каким-то плотным, чересчур плотным для меня. Я вошел в комнату, взял наугад книгу и присел на край кровати. Над ее резной латунной спинкой висела картина, на этот раз оригинал, на которой были изображены люди в темно-коричневом, розовом и белом, рассеянные по тенистому саду. Сидящая девушка искоса глядела на зрителя; другая, смеясь, положила голову и скрещенные руки на мощное плечо мужчины в сюртуке; под тканью искусно написанного тонкого летнего платья угадывалось гибкое, ловкое тело, которое было странно скручено: одну ногу она завела за другую, словно собираясь развернуться в прыжке, так чтобы ее платье закружилось вокруг бедер. Я открыл книгу и стал ее листать, отвлекаясь на раздававшиеся за дверью крики, пронзительные радостные возгласы, прерываемые детским смехом, к которым время от времени примешивались обрывки более взрослых голосов, то веселых, то недовольных, звучавших то совсем близко, то подальше, и угасавших в недрах обширного дома. В комнату зашел ребенок, мальчик с короткими светлыми волосами, и тоже стал искать книгу. Он даже не посмотрел на меня, я же молча наблюдал, как он обшаривает библиотеку, грубо заталкивая назад ненужные ему книги; наконец он выбрал подходящую и вышел, не говоря ни слова. Был ли это мой ребенок? Честно говоря, я понятия не имел. Я смотрел на страницы книги, но слова проплывали перед глазами, лишенные смысла. В конце концов я положил книгу на вышитое покрывало и, выйдя вслед за ребенком, направился дальше по коридору к большой гостиной. Маленькая девочка, может быть, давешняя, а может быть, уже другая, приближалась ко мне на полной скорости, топоча по полу своими маленькими ножками; она врезалась мне в ногу, захохотала и, не останавливаясь, побежала дальше. В гостиной светловолосый мальчик читал, сидя за столом между двух окон, через которые струились потоки света. Его золотистые волосы сверкали, но серьезное, сосредоточенное лицо оставалось в тени, а глаза, сфокусированные на раскрытых страницах, были мне не видны. Перед ним на столе стояла тарелка с фруктами; не поднимая головы, он протягивал руку и брал сливы, которые подносил ко рту и кусал, высасывая сок. Над самой его головой, между оконными переплетами, висел холст в очень простой деревянной раме: задумчивая девушка в розовой блузке с персиком в руках сидела за длинным столом. Интерьер, очень белый с расплывчатыми силуэтами темной мебели, был похож на тот, в котором я сейчас находился; но у этой девушки со взглядом одновременно спокойным и игривым было там свое место, между тем как я тенью блуждал по этим наполненным жизнью комнатам. Рядом со мной, сидя вместе с котом на длинном канапе бордовой кожи, две молодые женщины болтали и пили чай. «Ты смотрела погоду?» — «Да, дождь обещают». — «А так ведь и не скажешь». Кот, урча, потянулся и внезапно уснул, положив остроконечную мордочку на вытянутые вперед лапы. Я подошел поближе, к центру большого красного ковра, который занимал всю комнату, они же продолжали разговаривать, не обращая внимания на мое присутствие, я заколебался, чертя ногой по черным и белым, переплетающимся с голубыми, узорам ковра, затем почти задом попятился к большому буфету в глубине гостиной, чтобы налить чашку чая и себе. Он был еще горячий; я поставил назад тяжелый керамический чайник и подул на чашку, прислушиваясь вполуха к болтовне женщин; мой взгляд поблуждал по ряду картин, которыми была украшена комната, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к предыдущей, пока наконец не остановился опять на залитых солнцем волосах мальчика. Поглощенный чтением, он не обращал никакого внимания на происходящее вокруг, включая меня и двух женщин, смеющихся и разговаривающих, одна из которых, вероятно, была его матерью. Его взгляд, скользя по строчкам книги, различал только поток внутренних образов, намного более реальных и живых, чем все, что находилось в этом доме; однако в то же самое время он жил своей жизнью ребенка в полной гармонии с тем, что его окружало, — просторные комнаты этого обширного жилища, наполненные воздухом и светом, были словно продолжением его маленького тела, такие же переменчивые и загадочные, как и его настроения. Что касается меня, то я наблюдал за всеми, и наблюдал внимательно, но они оставались для меня недосягаемыми, как если бы это были картинки за толщей стекла; я напрасно прижимал к ней лицо, не способный туда проникнуть, разбить эту невидимую поверхность или же, наоборот, броситься в нее, как в холодную водную гладь, а вещи за ней, равные самим себе, образовывали огромный немой покой, гармоничную композицию цветов, света, движений, которая соединяла в одну безмятежную, но непроницаемую картину светловолосого мальчика, спящего кота, болтающих женщин и девушку с персиком.
Пронзительный детский смех ворвался мне в уши, и я отвлекся от чтения. Я вздохнул, заложил книгу пальцем и с досадой откинул голову на спинку шезлонга. К продолжающимся взрывам смеха присоединился резкий крик; из дома донеслись зовущие женские голоса. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на том, как припекающее солнце покалывает мне лицо. Но у меня не получалось, и я снова открыл глаза. Я сидел в глубине сада; у моих ног слабо колыхалась трава, большой зеленый треугольник света отпечатался на более темном зеленом живой изгороди и высоких, раскидистых, словно вырезанных на белесом небе, деревьев, чью листву шевелил слабый ветерок. Сзади с радостными возгласами ко мне приближалась шумная орава; мимо моего шезлонга пронесся ребенок, опрокинув маленький столик, на котором стоял мой, к счастью, пустой стакан. Я снова вздохнул, поставил ноги на землю и наклонился, чтобы поднять стол и поставить стакан обратно. Рядом с ним я положил свою книгу, чей холщовый переплет мятного цвета выделялся на темном дереве стола словно маленький прямоугольник света. Дети, которые теперь были совсем рядом, с криками катались по лужайке; поодаль маленькая светленькая девочка в коротком горчичном платье, растянувшись на животе и опираясь на локти, задумчиво наблюдала за ними с длинной травинкой в зубах. Я обогнул стороной их всех и вошел в дом. Сумрак, в который были погружены комнаты, контрастировал с дневным светом; на миг ослепленный, я зажмурился и двинулся по коридору на ощупь. Солнечный свет косыми лучами падал через высокие окна, прочерчивая тонкие полоски на вощеном полу. Я нерешительно ощупывал пальцами кремовые обои с цветочным узором, перевитым золотыми нитями, пока не остановился у вставленной в рамку репродукции портрета надменной юной дамой былых времен, чье бледное и строгое лицо напоминало маску из слоновой кости, наклеенную поверх всех эмоций и навсегда скрывшую тайные движения ее тела. В глубине коридора снова раздались и стали приближаться детские крики. Все казалось мне каким-то плотным, чересчур плотным для меня. Я вошел в комнату, взял наугад книгу и присел на край кровати. Над ее резной латунной спинкой висела картина, на этот раз оригинал, на которой были изображены люди в темно-коричневом, розовом и белом, рассеянные по тенистому саду. Сидящая девушка искоса глядела на зрителя; другая, смеясь, положила голову и скрещенные руки на мощное плечо мужчины в сюртуке; под тканью искусно написанного тонкого летнего платья угадывалось гибкое, ловкое тело, которое было странно скручено: одну ногу она завела за другую, словно собираясь развернуться в прыжке, так чтобы ее платье закружилось вокруг бедер. Я открыл книгу и стал ее листать, отвлекаясь на раздававшиеся за дверью крики, пронзительные радостные возгласы, прерываемые детским смехом, к которым время от времени примешивались обрывки более взрослых голосов, то веселых, то недовольных, звучавших то совсем близко, то подальше, и угасавших в недрах обширного дома. В комнату зашел ребенок, мальчик с короткими светлыми волосами, и тоже стал искать книгу. Он даже не посмотрел на меня, я же молча наблюдал, как он обшаривает библиотеку, грубо заталкивая назад ненужные ему книги; наконец он выбрал подходящую и вышел, не говоря ни слова. Был ли это мой ребенок? Честно говоря, я понятия не имел. Я смотрел на страницы книги, но слова проплывали перед глазами, лишенные смысла. В конце концов я положил книгу на вышитое покрывало и, выйдя вслед за ребенком, направился дальше по коридору к большой гостиной. Маленькая девочка, может быть, давешняя, а может быть, уже другая, приближалась ко мне на полной скорости, топоча по полу своими маленькими ножками; она врезалась мне в ногу, захохотала и, не останавливаясь, побежала дальше. В гостиной светловолосый мальчик читал, сидя за столом между двух окон, через которые струились потоки света. Его золотистые волосы сверкали, но серьезное, сосредоточенное лицо оставалось в тени, а глаза, сфокусированные на раскрытых страницах, были мне не видны. Перед ним на столе стояла тарелка с фруктами; не поднимая головы, он протягивал руку и брал сливы, которые подносил ко рту и кусал, высасывая сок. Над самой его головой, между оконными переплетами, висел холст в очень простой деревянной раме: задумчивая девушка в розовой блузке с персиком в руках сидела за длинным столом. Интерьер, очень белый с расплывчатыми силуэтами темной мебели, был похож на тот, в котором я сейчас находился; но у этой девушки со взглядом одновременно спокойным и игривым было там свое место, между тем как я тенью блуждал по этим наполненным жизнью комнатам. Рядом со мной, сидя вместе с котом на длинном канапе бордовой кожи, две молодые женщины болтали и пили чай. «Ты смотрела погоду?» — «Да, дождь обещают». — «А так ведь и не скажешь». Кот, урча, потянулся и внезапно уснул, положив остроконечную мордочку на вытянутые вперед лапы. Я подошел поближе, к центру большого красного ковра, который занимал всю комнату, они же продолжали разговаривать, не обращая внимания на мое присутствие, я заколебался, чертя ногой по черным и белым, переплетающимся с голубыми, узорам ковра, затем почти задом попятился к большому буфету в глубине гостиной, чтобы налить чашку чая и себе. Он был еще горячий; я поставил назад тяжелый керамический чайник и подул на чашку, прислушиваясь вполуха к болтовне женщин; мой взгляд поблуждал по ряду картин, которыми была украшена комната, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к предыдущей, пока наконец не остановился опять на залитых солнцем волосах мальчика. Поглощенный чтением, он не обращал никакого внимания на происходящее вокруг, включая меня и двух женщин, смеющихся и разговаривающих, одна из которых, вероятно, была его матерью. Его взгляд, скользя по строчкам книги, различал только поток внутренних образов, намного более реальных и живых, чем все, что находилось в этом доме; однако в то же самое время он жил своей жизнью ребенка в полной гармонии с тем, что его окружало, — просторные комнаты этого обширного жилища, наполненные воздухом и светом, были словно продолжением его маленького тела, такие же переменчивые и загадочные, как и его настроения. Что касается меня, то я наблюдал за всеми, и наблюдал внимательно, но они оставались для меня недосягаемыми, как если бы это были картинки за толщей стекла; я напрасно прижимал к ней лицо, не способный туда проникнуть, разбить эту невидимую поверхность или же, наоборот, броситься в нее, как в холодную водную гладь, а вещи за ней, равные самим себе, образовывали огромный немой покой, гармоничную композицию цветов, света, движений, которая соединяла в одну безмятежную, но непроницаемую картину светловолосого мальчика, спящего кота, болтающих женщин и девушку с персиком.
То же продолжилось и во время еды. Дети кричали, гоготали, хихикали, опрокидывали стаканы на стол, вытирали рукавами рты и размазывали пальцами жир по штанам, женщины их отчитывали, вытирали, без конца подкладывали еду, — и все это под непрерывный грохот приборов, посуды и шумное жевание. Если я хотел вина, приходилось ждать, пока кто-нибудь кого-нибудь обслужит, чтобы и мне перепало несколько капель в протянутый через стол бокал; что касается еды, то я наугад тыкал кончиком вилки в соседние тарелки, чуть-чуть фасоли тут, кусочек мяса там — казалось, никто ничего не замечает. Время от времени, воспользовавшись паузой в разговоре, я отваживался бросить фразу, но она оставалась без внимания, поток слов и криков не прекращался. Дети поднялись, страшно грохоча стульями, и отправились играть, потом вернулись, чтобы на ходу перекусить, но их снова усадили за стол; когда они пили, сок, он стекал по их подбородкам, руками они доставали из тарелок не понравившиеся им кусочки и бросали их в тарелку соседа, затем снова вскочили и вернулись к своим играм, не слушая, что им говорят. Во время десерта все бросились в гостиную, прихватив по куску торта. Подавленный, я поспешно проглотил то, что оставалось на тарелках, пока убирали со стола. В гостиной собрались гости, их угощали выпивкой и маленькими сигарами, пока между ними завязывался разговор, перемежаемый комплиментами и любезностями; я попытался найти свободный стул, надеясь, по крайней мере, сесть и послушать, но мои старания были напрасны: все стулья были заняты, и мне ничего не оставалось, кроме как уйти. Я оказался в просторной бело-голубой ванной комнате, где три девочки плескались в большой пенящейся ванне, но, когда я попытался пройти мимо них, они начали визжать и размахивать руками, подняв целый фонтан брызг, и мне пришлось ретироваться, чтобы не вымокнуть. Мальчик со светлыми волосами в соседней комнате играл на пианино очень простую детскую песенку, перебирая клавиши и отсчитывая такты себе под нос. Я было протянул руку, чтобы сыграть несколько нот вместе с ним, но, не замечая меня, он шваркнул крышку пианино прямо на мои пальцы и, часто топоча ногами, бросился прочь. Я снова поднял крышку и попытался подобрать начало пьесы, но мои онемелые пальцы не помнили, как двигаться. Над пианино портрет старика, по виду благородного, хоть и несколько желчного, смотрел на меня с осуждением, поджав губы, словно говоря этим, что мне здесь не место. Меня охватила усталость, я решил поспать, но не знал, где мне прилечь: обойдя несколько комнат, одинаково чистых и красивых, я наугад выбрал одну из них. Раздевшись в изножье кровати, я тщательно сложил одежду на стул; собираясь скользнуть под простыни, я мельком увидел отражение своего тела в большом круглом зеркале над изголовьем кровати, белого тела, весьма хорошо сложенного, но как будто совершенно мне чужого. Я выключил свет и вытянулся на боку, подложив одну руку под щеку, а другую прижав к груди. Но заснуть мне не удалось. За деревянной дверью снова раздались детские крики, чьи-то шаги, отзвуки голосов. Казалось, они доносились со всех концов дома, то из одного места, то из другого, то удаляясь, то приближаясь, а потом разом обрушивались на меня. Веселье переходило в гнев, иногда слышался плач, обрывки резких фраз, значение которых оставалось для меня неясно. Иногда становилось тише, а потом все вдруг начиналось заново, пока наконец голоса не зазвучали спокойнее, веселее. Женщина то и дело разражалась смехом, к ней присоединялся мужчина, дети тоже мирно смеялись в каком-то уголке. Чуть позже — я по-прежнему лежал без сна — дверь отворилась и люстра брызнула ярким светом. Я зажмурился и зарылся головой в подушку. Рядом со мной кто-то в свою очередь стал раздеваться, я слышал шелест ткани, шуршание гребня в длинных волосах. Наконец этот некто скользнул в постель рядом со мной и, повернувшись ко мне спиной, погасил свет. По запаху я понял, что это женщина; ее тело, горячее и нежное, мгновенно уснуло, дыхание выровнялось, затем перешло в едва слышное похрапывание. В раздражении я повернулся на спину и открыл глаза. Мало-помалу они привыкли к темноте; скосив их набок, я различил лишь складку простыни, спущенной c плеча женщины, и темную массу ее волос. Я опять уставился в потолок, изучая в полумраке длинные дубовые балки и люстру с хрустальными подвесками и желтыми медными рожками, на которых вспыхивали смутные отблески света. Женщина, спавшая рядом со мной, была неподвижна, простыня поднималась и опускалась в размеренном ритме ее дыхания. Но сон по-прежнему бежал от меня, мои мысли, не находя покоя, не давали уснуть. Наконец заметив, что небо в окне начинает бледнеть, я бесшумно встал и оделся в потемках. Женщина повернулась на спину, под простыней угадывались ее рука, вытянутая вдоль живота, и спрятанная между ног ладонь. Я вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Я быстро заблудился в хаосе комнат: в одной на двухэтажных кроватях спали четверо детей, чьи головки чуть возвышались над простынями и кучей плюшевых игрушек; в другой храпела пожилая женщина, свернувшись клубком на узкой кровати; в третьей спала пара, голова женщины лежала на плечевой впадине мужчины, вышитое покрывало было откинуто, обнажая белую с широкой розоватой ареолой грудь, казавшуюся молочной по сравнению с более темной грудиной, на которой она покоилась. В коридорах, которые уже осветил день, пыльные картины выступали в темноте маленькими цветными прямоугольниками на стенах, покрытых светло-бежевой, салатовой и кремовой тканью, оттененной коричневым или золотым. Наконец я нашел выход и проскользнул в дверь, которую аккуратно закрыл за собой, стараясь никого не побеспокоить в спящем доме.
Ворота закрылись за мной с легким лязгом, и я вышел в бледный рассвет. Улица была еще влажная после поливальных машин; еще колеблющиеся большие листья платанов вдоль тротуара скрывали белеющее небо c желтыми просветами и оранжевыми отблесками. Я шел прогулочным шагом, с наслаждением изучая цемент тротуара, нанесенный широкими, свободными мазками, словно кистью, потом расширил обзор, включив туда серые тона дороги, фасады домов, стволы платанов в мраморных пятнах цвета ванили, листву, анисово-зеленую при свете зари, и кораллово-красный, темно-синий, канареечно-желтый и белый припаркованных автомобилей. Дойдя до одного из домов, я вставил ключ в замок, расположенный высоко в тяжелой деревянной двери, навалился всем телом, чтобы ее отворить, и вошел в узкую прихожую. Я чувствовал себя окрепшим: я обрел плотность, тело вновь ощутило свои формы и границы, снова заняло место в пространстве. Передо мной была выкрашенная в оливково-зеленый дверь вечно отсутствующего соседа; справа от меня лавандового цвета деревянная лестница, покрытая старым ковром, прибитым к ступеням маленькими латунными скобами, вела на антресоль, куда выходили двери принадлежащих мне помещений. Там я заколебался перед двумя дверями: та, что слева, была выкрашена в черный, та, что справа, — в пурпурно-красный. Но мое вновь окрепшее тело напоминало о своих потребностях, и, развернувшись, я вышел обратно на улицу в поисках открытого кафе. Неподалеку была небольшая площадь, обсаженная платанами; официант в черном жилете в золотую полоску расставлял на тротуаре круглые столики из зеленоватого мрамора и небольшие плетеные стулья соломенного цвета, перевитые красным и черным, два из которых занимали мужчины в темных пальто. Один из них читал газету: крупный заголовок на первой полосе, видный мне только наполовину, упоминал страну, которая была известна своей враждебностью к нам; второй внезапно поднял голову: его взгляд из-под полей мягкой шляпы был скрыт круглыми солнечными очками в черепаховой оправе. Я вошел в кафе, как раз когда официант поставил перед обоими маленькие белые чашечки, и тоже заказал кофе и тосты с маслом, которые неторопливо смаковал за стойкой, прежде чем приняться за кофе и закурить сигарету, наслаждаясь счастьем вновь обретенного ощущения своего тела.
На углу улицы, за одним из платанов, я заметил чью-то тень. Я выскочил из кафе и схватил стоявшую там за запястье. «Что тебе надо? Что ты тут делаешь? За мной шпионишь?» Она смерила меня строптивым взглядом и попыталась вырвать руку, но я держал крепко. «Пошли со мной». Не выпуская ее руки, я повел ее в свою квартиру, она без протеста следовала за мной к заметной издалека небесно-голубой двери в середине большого грязного фасада кирпичного здания. Открывая дверь, я заметил, что краска на ней облупилась. «Надо снова покрасить, — сказал я себе, прикрывая за собой створку, — в цвет, может быть, более подходящий к цвету лестницы». Я потащил девушку, которая по-прежнему не протестовала, по ступенькам на узкую лестничную клетку, где снова заколебался перед двумя дверями. Наконец я выбрал ту, что слева, — черную. В комнате было темно, и я зажег свет: все — мебель, пол, антресоль с кроватью — было покрыто пластиковой пленкой, грязной, но прозрачной. Один из чехлов, наброшенный на табурет, образовывал холм, на котором стоял игрушечный конструктор из красных, желтых, голубых, черных и белых деталей, единственное пестрое пятно в этой комнате, серой, заброшенной, словно ожидавшей ремонта, отложенного на неопределенный срок. С гримасой отвращения я посмотрел в окно, за которым слабо светилась белая стена вентиляционной шахты. «Что ж, тогда в другую комнату», — заключил я наконец с сожалением, не глядя на девушку, которая продолжала молчать. Другая комната была поопрятней, это было ясно с первого взгляда; окно в ней выходило на кирпичную стену, которая была так близко, что ее можно было достать рукой, однако эта длинная и узкая комната не казалась темной и вполне меня устраивала. Стены были светлые, когда-то, наверное, белые, но со временем запачкались и покрылись пятнами, кое-где даже виднелись полоски поблекшей краски, они были усеяны картинками, фотографиями, журнальными вырезками, старыми снимками цвета сепии, вырванными из книг страницами, которые были приколоты булавками или приклеены желтоватым скотчем. Понятия не имею, кто мог собрать вместе все эти изображения, может быть, прежний жилец, а может быть, я сам в прежние времена, сказать сложно. У входа на металлических козлах лежала доска из светлого дерева, на которой в беспорядке валялось несколько книг, по большей части с оторванными обложками, и стопка бумаги; на другой стороне комнаты низкий круглый столик со стулом занимали все пространство перед кроватью, такой широкой, что оставался только узкий проход, чтобы добраться до двери в ванную комнату, выкрашенной в тот же красный, что и входная дверь. Я указал девушке на кровать: «Вот, ложись». Она обогнула меня, смеясь как озорная девчонка, и проплыла по полу из красного дерева, как по воздуху; у кровати она плавно развернулась и, как была в яблочно-зеленом непромокаемом плаще, оставлявшем открытыми гладкие стройные ноги, упала назад с раскинутыми руками, рассыпая светло-рыжие волосы по лиловой простыне. Я сел за круглый столик, налил себе в бокал из стоявшей на нем бутылки и закурил сигарету. С чистым, звонким смехом девушка вскочила на ноги. «Ты смешной!» — засмеялась она. Она сбросила с себя плащ на кровать; под ним оказалось короткое летнее платье баклажанового цвета, вероятно, муслиновое, которое едва доходило ей до бедер. Она запустила пальцы в свои густые достающие до плеч волосы и двинулась вперед подпрыгивающей походкой. Я протянул руку, чтобы погладить ее бедро, когда она поравнялась со мной, но она ловко увернулась, мои пальцы коснулись только тонкой, шуршащей ткани платья, а девушка проскользнула к столу и стала из баловства небрежно листать стопку бумаги. «Перестань», — буркнул я, забавляясь про себя. «Почему ты не нальешь мне?» — спросила она, улыбаясь и продолжая разглядывать листы бумаги. Я налил бокал и отнес ей; она отпила глоток и внезапно подняла на меня свои большие темные глаза, бездонные и смеющиеся. «Наберешь мне ванну?» — «Набери сама», — отрезал я не слишком любезно, снова усаживаясь за круглый столик. Она разразилась хохотом, встала и снова пересекла комнату, расстегивая на спине крючки платья, которое она потом плавно стянула через голову и бросила на простыни, туда же, куда и плащ. Под ним оказались только крохотные, почти прозрачные кружевные трусики, розовые, как лососина, я любовался длинным изгибом ее спины, блеском ее золотистой кожи, тонкой шеей под коротко стриженными на затылке волосами. «Ты зануда!» — бросила она мне, затем повернулась, уперев руки в боки. «Я красивая?» — продолжила она, смеясь еще больше. Ее коричневые соски торчали на маленькой груди, я различал густые волосы на ее лобке под тонкой тканью трусиков, она двумя руками взъерошила свою шевелюру и улыбнулась во весь рот, молодая, гордая, восхитительная. Я ничего не ответил, счастливый, что могу просто на нее смотреть. «Зануда!» — повторила она, не переставая смеяться. Она открыла дверь в ванную комнату и наклонилась над эмалированной ванной; из больших белых кранов брызнула вода. Я наблюдал за ней через приоткрытую дверь. Она выпрямилась и сняла трусики, согнув сначала одну ногу, потом другую; затем она исчезла из виду, и я услышал звук струи — более тонкий и резкий, чем шум воды из-под крана в ванной комнате. Пока вода наливалась, я блуждал глазами по фотографиям, которыми были оклеены стены. Беременная женщина, гордо шагающая перед построившимися в шеренгу солдатами; толпа мужчин с поднятыми кулаками и в полосатых накидках, завязанных на плечах; двое мужчин в черных костюмах и хирургических масках, стоящие у изгороди с пестрыми зонтиками в руках. Одна из фотографий особенно привлекла мое внимание: солдат-азиат среди толпы, одетой в старинные восточные костюмы, почти завершил размашистый удар мечом, между тем как голова осужденного, стоящего перед ним на коленях, отделялась от плеч в густом фонтане крови. Два мгновения идеально сцепились в одно, и в этом было что-то от спорта: мгновение, в которое лезвие рассекает шею в своем безупречном движении, синхронизировалось с тем, в которое палец фотографа нажимает на кнопку спуска; момент казни совместился с моментом создания изображения, сновидческого, небывалого, совершенного в своей банальной повторяемости (поскольку таких изображений, я прекрасно знаю, были сотни) изображения момента человеческой смерти. Еще не отделившись от шеи, голова на ней колебалась, ее рот исказился немым криком, глаза были закрыты перед непостижимой очевидностью, так же как колебалась и жизнь осужденного, раз и навсегда подвешенная на щелчке затвора. Девушка вышла из ванной голая и продефилировала мимо дивана, чистя зубы по-детски тщательно, так что губы ее были покрыты легкой белой пеной. Она взглянула на меня, улыбнулась сквозь пену и вернулась в ванную. Я докурил сигарету, продолжая разглядывать изображение обезглавленного китайца, после чего присоединился к ней. Она уже лежала в ванне; еще колышущаяся вода искажала линии ее тела, которое, за исключением головы и кончиков сосков, было скрыто под голубоватой поверхностью. «Да, ты красивая», — печально признал я, садясь на край, чтобы попробовать воду рукой.
Если уж на то пошло, эта девушка не была мне неприятна. Она была игрива, легкомысленна, соглашалась на все. Но что-то в ней я никак не мог ухватить. В моих объятиях она трепетала, как хлопающая крыльями птица, мои касания исторгали из ее тела протяжные вздохи, которые замирали в приглушенных стонах, но, сколько бы я к ней ни прикасался, сколько бы ни ласкал ее, ни раздвигал ее податливые конечности, чтобы в нее проникнуть, мне никак не удавалось ее ухватить, нечто в этой девушке ускользало от меня, как песок сквозь пальцы. Я кончил длинными белесыми струями на ее золотистое тело, растянулся рядом с ней, обхватил ее и ненадолго уснул; когда я проснулся, все началось сначала — без конца, без кульминации, без удовлетворения. Когда мы разговаривали, она, смеясь, отвечала мне словами, легкими, как она сама, не пустыми, но лишенными связи, словно они любезно служили пунктуацией для моих фраз. Мы съедали все, что попадалось под руку в случайных бистро и ресторанчиках, я без разбору набрасывался на все подряд, чтобы восстановить силы перед тем, как вернуться с ней в комнату. Ей же было все равно, она беспечно предавалась удовольствиям с сиюминутной легкостью, одновременно жадной и безразличной. Но она была не способна сказать мне ничего определенного, я же никогда не мог быть уверен ни в ней, ни в ее теле, ни в ее словах. Тем не менее в этой комнате со стенами, испещренными фотографиями, я чувствовал себя самим собой, существом, равным другим существам, живущим свою жизнь по общим для всех законам, как и всё на свете. И только девушка не подчинялась этому негласному правилу, ее присутствие оставалось неизменным, всегда ускользающим диссонансом. Сама ее живость делала ее призраком, маленькой ночной бабочкой, порхающей между четырьмя стенами, чтобы в конце концов умереть на заре. Она мне не наскучивала, об этом не было и речи, но я не знал, как с ней быть, ни как, ни куда ее поместить, чтобы установить хотя бы временное равновесие; я натыкался на углы ее небольшого подвижного тела, как на плохо пригнанные поверхности, будучи не в состоянии хоть на мгновение найти ей место в одном пространстве со мной.
Я присоединился к своим друзьям в купе поезда, испытывая своего рода удовлетворение. Один из них со смехом обратился ко мне: «Ты ведь не забыл? Это завтра утром, поезд уходит в 8:43. Твой билет у меня». — «Какая там будет погода?» — «Не знаю. По-прежнему обещают дождь, но пока погода хорошая». Закрывая красную дверь в комнату, я сообразил, что не взял с собой сумку; что касается девушки, то я слабо представлял себе, где она: может, осталась в постели, а я просто не заметил, а может, ушла до меня, не знаю. У двери моего дома стояли двое мужчин в темных костюмах: один, поставив ногу на ступеньку, записывал что-то в блокнот, второй остановил меня на мгновение, чтобы попросить прикурить. По дороге я миновал большие современные здания, конструкцию из кубов — синеватых, коричневых и цвета ржавчины, — где застекленные окна чередовались с металлическими пластинами, образуя длинные вертикальные ленты, составленные из секций разной ширины. На улице было оживленное движение, навстречу мне попадалось множество людей, мужчин и женщин, спешащих на работу и погруженных в свои мысли; иногда разве что какая-нибудь молодая женщина поднимала на меня глаза и улыбалась, и я отвечал ей тем же, но это случалось нечасто. Внутри вокзала царило радостное оживление; в зарезервированном нами купе мои друзья обменивались книгами; я заказал сэндвич в баре поезда и устроился на высоком табурете. Поезд, скрипя, покачивался на ходу, за окном проплывали городские здания, затем начались предместья, становившиеся все более хаотичными и грязными, чтобы в конце концов уступить место первым деревьям и полям, с вкрапленными в них красивыми маленькими кладбищами. Небо было ясное, светлое, прочерченное длинными белыми полосами; вдалеке скучилось несколько облаков, которые отбрасывали большие бесформенные тени на поля, засеянные пшеницей и бледным ячменем. Наш конечный пункт был выбран не мной, а моей подругой, позвонившей мне накануне; она по порядку расписала нам все прелести этого маленького провинциального городка, включая очарование толпы, которая в этот сезон по вечерам высыпала на улицы: все это, по ее словам, делало его идеальной целью нашей поездки. Она же выбрала и гостиницу: мне достался совершенно белый номер с ковролином цвета слоновой кости, постелью под белым покрывалом, обитым черной кожей стулом и красным квадратом в рамке над кроватью в качестве единственного украшения. Душевая, облицованная белым и серым кафелем, была просторная, и я с наслаждением залез под душ, испытывая смутное сожаление, что девушка сейчас не со мной, потому что этот душ ей бы определенно понравился, но я почти сразу забыл об этом, отдавшись обжигающим струям, бившим мне в шею.
Мои друзья хотели посмотреть церковь, а потом прогуляться; я же предпочел музей и договорился встретиться с ними ближе к вечеру. Небо над лабиринтом узких улиц, ведущих к площади, на которой был музей, отливало серым, и я сказал себе, что с учетом прогноза нужно взять зонтик или, на худой конец, дождевик. Музей, еще малоизвестный, открылся недавно: местный богатый эксцентрик, чья единственная дочь, по слухам, повесилась, передал городу свою коллекцию и сумму, достаточную для ее консервации и создания экспозиции. Залы были небольшие, но светлые и высокие, белые, как и мой номер в гостинице, что вместе создавало ощущение пространства, располагающего к сосредоточенности. Посетителей было мало, редкие звуки оставались приглушенными, даже шаги едва отдавались от навощенного пола. Я прошел через эти помещения, следующие вереницей друг за другом как часовни, пробегая глазами висящие там картины, большая часть которых, честно сказать, оставляли меня равнодушным. Это были красивые полотна, талантливые, написанные в энергичной манере; в фигурах, изображенных по всем правилам живописи, казалось, были жизнь и движение, но они ни о чем мне не говорили, и я продолжал идти дальше. Наконец я остановился перед большим, почти квадратным полотном, в высоту чуть больше моего роста, это был красный фон, на котором был нарисован черный прямоугольник, а затем ниже другой прямоугольник поуже, тоже красный, но более темный, чем фон, и не такой правильный. Это, конечно, была мелочь, но меня поразило, что если смотреть на них, оставаясь на месте, то прямоугольники начинали двигаться, то приближаясь, то отдаляясь. Стоило мне чуть-чуть отойти назад, как черный прямоугольник мягко надвинулся на меня, как бы предлагая мне составить ему компанию; но едва я шагнул ему навстречу, как он стремительно отодвинулся и ушел далеко за пределы фона, став зияющей бездной, куда я едва не упал. В испуге я отступил на шаг, и он тут же метнулся за мной, моментально заняв прежнее место, где он повис на фоне картины, раскрывая мне себя с легкой безмолвной улыбкой. Нижний прямоугольник, более игривый, от меня прятался: если я, к примеру, делал шаг или два наискосок, он менял цвет, оранжевея и становясь более приглушенного, выгоревшего оттенка; в противном случае он плясал из стороны в сторону, всегда оставаясь чуть-чуть позади черного. Эта удивительная картина как будто сама рассматривала меня, у нее было лицо, улыбающееся серьезно и доброжелательно, которое, не отводя взгляда, смотрело на меня, смотрящего на него, и не давало мне уйти или посмотреть в другую сторону. Наконец, подошел служитель и дотронулся до моего плеча: «Месье, пора, мы закрываемся». Освобожденный его вмешательством, я присоединился к последним посетителям, направлявшимся к выходу. На улице одна за другой упало несколько капель, оставляя на сером камне тротуара крапинки, одна капля шлепнулась мне на лоб, еще одна на руку. Прямо передо мной закрывался магазин; продавщица любезно позволила мне приобрести фетровую шляпу, прежде чем опустить штору. На площади, где я собирался присоединиться к друзьям, теснилась оживленная густая толпа, первые признаки дождя ничуть не умерили ее веселья и энтузиазма. Я нашел моих друзей на крытой террасе кафе и заказал себе выпить, меж тем как они смеялись над моей шляпой, тем не менее весьма практичной. Мы пили и курили, они рассказывали мне про церковь в мельчайших подробностях, я же молчал, радуясь оживленности их голосов. Когда мы вышли из бистро, дождь усилился, зонтики, открывающиеся в толпе один за другим, начали сталкиваться, так что порой мне приходилось втягивать голову в плечи, чтобы избежать попадания спицы в глаз. Подхваченный этой толпой, я постепенно потерял своих друзей из виду; в конце концов они исчезли совсем и я остался один. Я не испытывал беспокойства: городок небольшой, говорил я себе, я их быстро найду. Я шел вдоль каменного, слегка изгибающегося парапета; за ним, как я прекрасно знал, текла река, заключавшая город в свою излучину, но на этой стороне было слишком темно, чтобы что-либо разглядеть. Навстречу мне шли в ногу двое мужчин в дождевиках с большими черными зонтиками, скрывающими их лица. Их вид показался мне слегка угрожающим; но, поравнявшись со мной, они безмолвно расступились и, обогнув меня с обеих сторон, воссоединились за моей спиной. Дальше улица шла вверх, расширялась и вела к мосту, соединявшему этот берег с более новой частью города; при входе на мост я изменил маршрут и свернул на узкую улочку, ведущую к площадям наверху. Но там моих друзей тоже не оказалось. Подозрительные типы в длинных пальто небольшими группками прятались под деревьями, украдкой шушукаясь между собой; машины с тонированными стеклами сновали туда-сюда, словно в каком-то нескончаемом балете, порой одна из них, поравнявшись с какой-нибудь группкой, останавливалась, дверца машины открывалась, происходил короткий диалог или же один из них залезал внутрь, захлопывал дверь, и машина ехала дальше. Свисающие с проводов фонари горели в ночной темноте над улицами и маленькими площадями, сияя среди непрекращающегося дождя, как большие яйцевидные нимбы. «Тут явно происходит что-то странное», — подумал я, стараясь держаться подальше от этих группок мужчин сомнительного вида. Однако, сколько я ни ходил туда-сюда по улицам, моих друзей не было и следа, время шло, прохожие попадались все реже и реже, но я не сдавался и заглядывал в каждый уголок, ощущая растущую тревогу. Так я оказался в скверике, зажатом между старыми домами, огромные старые деревья росли между аллеями, возвышаясь над холмиками, окруженными металлической оградой; в его глубине виднелось укромное место, что-то вроде слабо освещенной беседки, к которой вело несколько ступенек; я заглянул туда в отчаянной надежде, что мои друзья беседуют там, укрывшись от дождя, но на каменных скамьях сидели только трое военных в офицерской форме с мокрыми погонами; они курили сигареты и громко разговаривали, не обращая на меня никакого внимания. «Честно говоря, они зашли слишком далеко», — сказал один из них, и его желтые от никотина усы задрожали над губами, скривившимися в недовольной гримасе. «Да, точно. Они нас провоцируют», — заявил второй, приподнимая кепи, чтобы почесать себе лоб. «Нельзя, чтобы это сошло им с рук, — серьезно заключил третий. — Нужно отреагировать». Я оставил их дискутировать дальше и, весьма обескураженный, вернулся на улицу. Я знал, что моя гостиница не слишком далеко отсюда; вероятно, стоило подождать там, чем так блуждать под дождем. Не говоря уж о том, что вид всех этих зловещих типов не сулил ничего хорошего. Двое из них, засунув руки в карманы, как раз стояли возле гостиницы; несмотря на то, что была ночь и по-прежнему шел дождь, который теперь превратился в мелкую морось, они были в темных очках, словно изображали полицейских или шпионов. Я прошел мимо входа, не замедляя шага, они проводили меня взглядом, но не пошевелились. Улочка снова пошла под уклон, возвращаясь к главной улице; там снова оказалась густая толпа, но мне по-прежнему мерещились зловещие парни, стоящие под деревьями или сидящие за окнами пивных баров. В конце главной улицы был вокзал; поезд отбывал через час, я купил билет и с облегчением занял свое место, вытирая обшлагом рукава промокший войлок новой шляпы.
Дождь хлестал в окна поезда; снаружи была матовая, непроницаемая чернота. Когда я приехал, все еще шел дождь, неослабевающий сильный ливень, я промок, пока добирался до квартиры, и был не в духе. Девушка в одних только в хлопковых трусиках цвета шартрез в тонкую красную полоску, листала журнал, растянувшись на животе на лиловом прямоугольнике постели. «Что ты тут делаешь?» — спросил я с удивлением, сбрасывая с себя мокрые вещи. Она улыбнулась мне, между тем как я возился со своими штанами: «Э-э-э, ну, ждала тебя». — «Хоть бы отопление включила, — буркнул я. — Тут дубак». Она была почти голая, но, казалось, не обращала на это никакого внимания, меня же била дрожь, и я поспешно натянул на себя сухие штаны, рубашку и свитер. Это не сильно помогло, и, сев за круглый столик, я налил себе выпить. Девушка поднялась и, усевшись по-турецки, стала c интересом меня разглядывать: ее улыбка, тонкая талия, маленькие торчащие груди, углы коленок — все в ней выражало мне смутный, дружественный упрек. Я встал со стаканом в руке и, подойдя, сел за письменный стол. Откинувшись назад, девушка уронила голову на подушки, ее колени, соприкасаясь, образовали с ее стопами, поставленными плашмя на фиалковые простыни, подвижный треугольник, который она тихонько покачивала из стороны в сторону. «Иди сюда, если тебе холодно». — «Нет, не сейчас», — ответил я рассеянно, теребя ручку и перекладывая бумаги. Под руку мне попалось маленькое стеклянное яйцо, матовое и немного шероховатое; я взвесил его, покатал в ладони и поднял на свет: оно переливалось жарким, красным, темным блеском, словно было наполнено кровью или в нем зрело загадочное существо, непосредственно связанное с огнем. Я протянул руку к своему бокалу, ища глазами бутылку, но она каким-то образом уже оказалась у девушки, которая, смеясь, перекатывала ее между ног: «Хочешь ее? Подойди и возьми». — «О, ты меня бесишь». Мои плечи тряслись в ознобе: должно быть, я в самом деле простыл. За окном по-прежнему шел сильный дождь, погружая все вокруг в сумрак и почти скрывая из виду кирпичную стену, хотя она была на расстоянии вытянутой руки. Я встал и направился в ванную; девушка вернулась к журналу и листала страницы, играясь с бутылкой, по-прежнему зажатой между ее стопами. Подойдя к зеркалу, я стал изучать свое лицо: оно показалось мне странно расплывчатым, полустертым, мне не удавалось ухватить его конфигурацию; я тер его в замешательстве, но оно как будто растекалось под моими пальцами, и я еще больше ощущал свою разрозненность. Чтобы не смотреть на это, я вернулся в комнату; девушка по-прежнему читала, вполне себе живая и абсолютно настоящая — тонкокостная, с изящными сочленениями, теплой золотистой кожей, растрепанной шевелюрой, вспыхивающей красноватыми отблесками, и темными глазами, в которых всегда читалось легкое удивление. Я боялся до нее дотронуться, мне казалось, что мои пальцы пройдут сквозь ее кожу или же сами рассыпятся при соприкосновении с ней, как мокрый песок. Захватив по дороге бутылку, я вернулся к письменному столу, налил себе еще стакан и стал читать наваленные друг на друга листки. Почерк ничем не отличался от моего, должно быть, я сам написал эти строчки, эти страницы текста, но они мне совершенно ничего не говорили, и я напрасно пытался уловить смысл. Это было что-то вроде рассказа: рассказчик, блуждающая тень, идет по просторному дому, в комнатах раздаются крики маленьких детей. В атмосфере было что-то русское, можно было подумать, что это рассказ Чехова, будь там хоть какой-нибудь намек на психологизм; так или иначе, ко мне это не имело ни малейшего отношения. Может быть, это был сделанный мной перевод, о котором я забыл? Или копия попавшегося мне под руку текста? Я терялся в догадках, впрочем, это было не важно. Груди девушки, которая как будто спала на кровати, прятал раскрытый домиком журнал, ее голова была повернута набок, лицо частично скрыто волосами. «Она захватывает все больше и больше места, — подумал я. — Скоро она вообще будет чувствовать себя тут как дома». Мне по-прежнему было очень холодно, я трясся всем телом, но не хотел ложиться рядом с ней, я боялся пораниться о ее колючие кости, о ее такое твердое, острое тело; поэтому я сложил бумаги, вышел в коридор и открыл вторую дверь, ту, что слева, пересек комнату, ступая по полиэтиленовой пленке, поднялся по лестнице на антресоли и с закрытыми глазами скользнул под покрывающий их полиэтилен, подолгу сотрясаясь от пробегавшей по мне дрожи. Сколько это продолжалось? Сложно сказать — вечность песка и лавы, мое тело утратило всякую плотность, всякое присутствие, оно плыло где-то высоко-высоко, покачиваясь на лихорадке, как на погребальной ладье, сквозь годы минуя все воды мира, и не могло найти дорогу ни к жизни, ни к смерти. Когда в конце этого многовекового путешествия я снова открыл глаза, то обнаружил, что пленка исчезла, а я лежу под толстым пуховым одеялом в бежевом пододеяльнике, плавая в собственном поту. Я повернулся и оглядел комнату: пленка была убрана, на полу лежал широкий лазурно-голубой ковер, испещренный темно-голубыми узорами, все выглядело чисто, опрятно, пестрая игрушка по-прежнему лежала на табурете. У стены стояло большое прямоугольное зеркало в тонкой оранжевой раме: я хотел найти там свое отражение, но увидел только пеструю игрушку, показавшуюся мне больше и замысловатее той, которую я помнил, словно она выросла за эту долгую ночь. Я услышал, как под антресолями открылась дверь, о существовании которой я никогда не подозревал, и на голубом ковре появилась девушка. Теперь на ней были легкие темно-коричневые брюки и красная майка с большим черным кругом на груди. «Так лучше, а?» — сказала она, поднимая ко мне голову и улыбаясь во весь рот. «Тебе надо снести перегородку или хотя бы сделать двойные двери, так будет больше пространства». У меня не было сил сказать ей, чтобы она оставила свои советы при себе, я перевернулся на спину, расправил ноющие члены и снова закрыл глаза. Только тогда я заметил, что моя одежда исчезла так же, как и пленка, я лежал под одеялом голый и внезапно почувствовал стыд, словно ощипанная птица, нахохлившаяся и испуганная. «Где мои вещи?» — пробормотал я, но если девушка и слышала меня, то не ответила, — она опять куда-то исчезла. До меня донесся слабый шум льющейся воды: она, конечно же, наполняла ванну в другом конце квартиры; внезапно звук стал отчетливей, и я еще до ее возвращения понял, что загадочная дверь ведет в ванную, соединяя две смежные комнаты. На этот раз она держала в руке зеленое яблоко, которое поднесла к носу, прежде чем надкусить. Другое, спрятанное за спиной, она протянула мне: «Вот, держи». Поскольку я никак не отреагировал, она продолжала настаивать, суя яблоко прямо мне под нос: «Давай же, тебе станет лучше». Я не шевелился, и она снова откусила от своего яблока, медленно и тщательно жуя, а второе засунула в карман брюк. «Ванна почти готова. Ты идешь?» Я не мог отвести глаз от круглого шара у нее на бедре; наконец я поднял голову и перевел взгляд на зеркало в оранжевой раме, которое отражало длинную плавную линию ее тела. «Где моя одежда?» — «Ох, какой же ты иногда зануда! — засмеялась она. — Вот она, на стуле. Я еще положила трусы, ты был без них». Она снова исчезла под антресолями и закрыла за собой дверь. Я слышал ее возню за перегородкой, она выключила воду и, должно быть, разделась, затем я услышал, как ее тело скользнуло в ванну. Она продолжала грызть яблоко, было слышно, как слабо всплескивает вода. Я же закутался в одеяло и с трудом добрался до лестницы, которая скрипела под моим весом, пока я кое-как спускался, напрягая все силы, чтобы не упасть. Мои вещи действительно были там, где она сказала; но моя шляпа осталась в другой комнате, не говоря уже о куртке с бумажником и сигаретами. Но пройти через ванную, которая, должно быть, лучилась от избытка жизни этой девушки, было выше моих сил, а ключ от двери на лестницу остался как раз в кармане моей куртки. Я стал обдумывать свое положение, но голова была как в тумане, мысли путались и противоречили одна другой; дождь, продолжавший барабанить в вентиляционной шахте, добавлял головной боли, поскольку о том, чтобы выйти под ливень в одной рубашке, нечего было и думать, но я был не способен на новую встречу с этой невозможной девчонкой, другие же варианты пока не приходили мне в голову. Я мог бы еще долго там оставаться, прокручивая в голове эти мысли, но стоило мне шевельнуться, как в большом круглом зеркале, прислоненном к стене, мелькало отражение слишком фрагментированное и агрессивное, чтобы быть моим, и мне было от этого не по себе. Обуреваемый сомнениями, я открыл дверь в коридор: там стоял раскрытый и перевернутый большой зонт из светло-коричневого брезента, с которого на старый красный ковер стекала вода. «Это решает дело!» — радостно воскликнул я, сжав черную кожаную ручку. Прислонившись к перилам, я потряс зонт, обрушивая на ковер и лавандовый пол дождь крохотных капель, затем сложил его и стал спускаться по лестнице, наваливаясь всем весом на рукоятку в тщетной попытке контролировать свои члены, которые меня не слушались и норовили двигаться каждый в своем направлении.
Спрятав голову и верхнюю часть тела под раскрытым зонтиком, я шагал под дождем и радовался как ребенок, но не переставал испытывать легкую тревогу: я озирался кругом, всматриваясь в деревья и машины, припаркованные вдоль тротуара, но не замечал ничего необычного. Редкие прохожие, прикрываясь от потоков воды кто зонтом, кто просто держа над головой журнал, шли торопливым шагом каждый к своей цели и не обращали на меня никакого внимания. Добравшись до дома, я отпер ворота и, аккуратно закрыв их за собой, прошел через палисадник и позвонил в дверь. Мои ботинки и задняя часть брюк были мокрые, но это меня мало беспокоило; звоня, я рассеянно отметил, что лучше держусь на ногах. Дверь открыла уже немолодая женщина: «О, это вы! Мы всё гадали, куда вы пропали. Малыш болен». Сложив зонтик, чтобы поставить его в специальный цилиндр, я прошел за ней по длинному коридору, украшенному репродукциями, в детскую, оставляя на полу влажные следы. Мальчик лежал, съежившись под несколькими одеялами темного цвета, подолгу сотрясаясь от пробегавшей по его телу дрожи. Протянув руку, я дотронулся пальцами до его пылающего лба и погладил мокрые от пота волосы. «Врач приходил?» — спросил я, не оборачиваясь, у женщины, державшейся позади, у двери. «Да. Он сделал ему укол». — «Когда?» — «Это было утром». Я заметил пузырек с таблетками рядом с кроватью, взял его, прочитал этикетку и поставил назад. «Это врач оставил?» — «Да. Велел давать ему каждые четыре часа». — «И вы делаете, как было сказано?» — «Да, можете не сомневаться». На низком столике рядом с лекарствами стояли графин с водой и стакан; я осторожно перевернул ребенка на спину и, приподняв ему голову, поднес стакан к его губам. «Пей, — сказал я ему, — надо пить». Он не открыл глаза, но раздвинул губы, я приблизил стакан, но его рот слишком дрожал, стакан бился о зубы, и вода пролилась ему на подбородок. Я положил его голову назад на подушку, насквозь мокрую от пота, и снова погладил его по волосам. «Принесите мне таз с водой. И губку или мочалку». Молча выйдя, женщина вернулась с тем, что я просил. Я поставил таз на пол, смочил губку, выжал и, присев на край кровати, провел по лбу ребенка. Он поднял руку и положил на мою, она была невесомая, как кошачья лапка, сухая и тоже горячая. Я снова намочил губку и повторил процедуру несколько раз подряд; мало-помалу приступы дрожи сошли на нет; в конце концов мне удалось влить в него немножко воды. Женщина позади меня молча наблюдала за моими действиями. Я снова встал и взглянул на нее: «Простыня мокрая, пижама тоже. Поменяйте их. Сможете это сделать?» Она кивнула, избегая моего взгляда. Я вышел и направился в большую гостиную. Там было несколько человек, которые без особого энтузиазма обменивались ничего не значащими фразами; дети, несколько девочек и мальчик помладше тихо играли в карты за столом у окна; поверх их голов девушка в розовом смотрела на меня по обыкновению спокойно, почти заговорщически, словно желая поделиться со мной персиком. Я налил себе бокал вина и, расположившись на диване, положил ногу на ногу и по-свойски взял за руку женщину, сидевшую рядом со мной. Когда заговорили на очередную тему, я четко выразил свое мнение тоном твердым и не терпящим возражений; окружающие без возражений кивали в знак согласия. Вечером снова пришел врач; я уже успел помыться и переодеться, надел приличный костюм, жилет и даже вязаный шерстяной галстук, такой же коричневый, как костюм. Я проводил врача в комнату мальчика и оставался рядом, пока он его осматривал, слушал и мерил температуру. Кое-кто — женщины, мужчины и даже маленькая девочка — последовали за нами в комнату, они не стояли на месте и молча сновали туда-сюда без какой-либо цели, но, к счастью, сохраняя надлежащую дистанцию. Наконец врач изрек свой вердикт, который в точности совпадал с моим: продолжать принимать таблетки и делать компрессы, наблюдать за ребенком и следить, чтобы он пил достаточно. «Вы слышали? — бросил я столпившимся людям. — Важно пить, как я и говорил». Я поблагодарил врача и проводил его до входной двери; мы распрощались, обменявшись сердечным рукопожатием, и он обещал мне прийти на следующий день с утра пораньше.
За едой ничего не значащие, бестолковые разговоры продолжились; не впадая в высокомерие, но сохраняя твердость, я свел на нет бессмысленные дискуссии, прекратил пустые препирательства своим справедливым суждением, осадил не в меру разошедшихся и поддержал разумные речи. Не то чтобы я относился к этому серьезно — напротив, я ощущал себя мальчишкой, играющим роль взрослого, но играющим всерьез, настолько всерьез, что никому и в голову не приходило подвергнуть это сомнению, и, пока я подробно комментировал назревающий серьезный внешнеполитический кризис, все, не перебивая меня, внимательно слушали, ловя каждое мое слово. Дети молча ели, вежливо прося в перерывах между обсуждаемыми темами соли, воды или добавки. Мальчик поднес было руку к губам: я посмотрел на него, он покраснел и взял салфетку, чтобы утереться. Поев, дети извинились и встали из-за стола; я подлил вина взрослым и раздал желающим маленькие сигары. Женщина, сидевшая справа от меня и молча меня слушавшая, не спуская с меня своих прекрасных глаз, протянула мне горящую зажигалку; я поднес ее руку к кончику своей сигары и поблагодарил ее улыбкой, нежно придерживая ее пальцы, чтобы огонь не дрожал. Она смотрела на меня с безграничной благодарностью, в ее глазах читалась смутная тревога, лишая ее четкости и сглаживая ее черты, что, впрочем, относилось ко всем собравшимся вокруг стола. Я услыхал шум и поднял голову: светленький мальчик стоял в проеме двери, босой и бледный, как полотно. Я отложил сигару в пепельницу, подошел к нему и, взяв на руки, направился в одну из пустовавших комнат, где положил его на кровать, накрытую вышитым покрывалом. Он что-то неразборчиво бормотал, я приблизил ухо, слова обрели силу и стали складываться в фразы, я внимательно слушал, он теперь говорил тоненьким голосом с широко открытыми глазами, уставленными на какую-то точку, которую у меня не получалось определить, он отчетливо произносил слова, но я не мог уловить их смысл, синтаксис его фраз был безупречен, однако во всех них ключевое слово, от которого зависел смысл остальных, оставалось мне непонятным, ряд слогов, как будто что-то значащий, но ни к чему не относящийся, иногда же совершенно понятное слово, имеющее смысл, было вставлено в абсолютно бессвязную фразу, которая не вязалась с его значением. Я тоже говорил успокаивающие, умиротворяющие слова, не задумываясь отвечая на его реплики, в надежде вернуть ему ощущение реальности, но всякий раз его слова следовали за моими только для того, чтобы обогнать их и снова моментально удалиться в противоположном направлении, на головокружительное расстояние, в конце которого они разворачивались и возвращались, пускаясь в обратный путь с той же неумолимой логикой. Я попросил таз и стал делать ему холодные компрессы, одновременно массируя ему спину и ласково с ним разговаривая; и все же его одолевал страх, его черты искажались, я с улыбкой повторял ободряющие слова, его глаза оставались открытыми, но у меня не было никакой возможности понять, видел ли он что-нибудь вообще, бодрствовал он, или спал, или бредил вслух, вставляя мои слова в свой сон, я не хотел на него давить и продолжал смачивать ему лоб и затылок, пытаясь привести его в чувство, вернуть в реальность комнаты, где мы находились. Мало-помалу поток слов стал размеренней, фразы стали членораздельнее; наконец, ребенок закрыл глаза и его влажная головка откинулась мне на грудь, где я и держал ее в своей ладони, казавшейся огромной рядом с его личиком. Мне принесли салфетку, и я вытер ему волосы, затем положил его на кровать и лег рядом с ним, даже не разувшись. Умиротворенный, он ровно, хоть и с присвистом, дышал, его веки, распухшие и прозрачные, подрагивали поверх глазных яблок. Я обнял его рукой и долго оставался рядом с ним. Сильно позже, когда ребенок уже крепко спал, я снова встал. «Вы, побудьте с ним», — сказал я первому, кто попался мне в коридоре. Остальные рассеялись по дому, я заметил кое-кого через приоткрытые двери или в глубине коридора, но мне не было до этого дела, я вернулся к своей сигаре, снова прикурил ее, уселся под портретом девушки с персиком и открыл лежавший там журнал, чтобы изучить последние заявления иностранного лидера, который обращался к нам с какими-то немыслимыми угрозами.
Во время завтрака собравшиеся за столом казались еще менее материальными, еще более эфемерными, чем вчера. Женщина, с которой я провел ночь, помешивала ложкой яйцо всмятку, не поднимая на меня глаз; ее тело под батистовым платьем должно было еще помнить наши любовные игры; вероятно, это была та самая, которая накануне за ужином поднесла мне огня, но я не был до конца в этом уверен; дети молча уплетали тосты с маслом, обильно запивая фруктовым соком; я же листал утренний журнал с еще более неутешительными новостями, на которых я напрасно пытался сосредоточиться, настолько меня отвлекало мое собственное присутствие: я так остро ощущал свою материальность, что у меня даже ныли суставы. Объявили о приходе врача: я встретил его в коридоре и в нескольких словах обрисовал ему вчерашнюю ситуацию. «Тут нет повода для беспокойства, это случается в таком возрасте и порой сопровождается сильным жаром. Главное сбивать температуру, как вы абсолютно правильно и сделали». Пройдя в комнату, он осмотрел мальчика, который выглядел утомленным и не сопротивлялся; врач стал было его расспрашивать, но он ничего не помнил. Температура стала поменьше. «Ему нужно немного поесть, — заключил врач, убирая инструменты в аптечку. — Бульон, компот, немного белого риса, если он будет в состоянии». На улице по-прежнему лил дождь, и, захватив большой коричневый зонтик, чтобы проводить его до машины, я отступил в сторону, чтобы пропустить его в ворота, одновременно прикрывая от дождя. Стоя в одиночестве на улице спиной к воротам, я заколебался: не вернуться ли мне в квартиру? Я окинул взглядом улицу в соответствующем направлении, и мое горло сжалось, когда я заметил двух мужчин в черном с зонтиками в руках. Они держали их довольно высоко, позволяя мне с нарастающим ужасом разглядывать их сверкающие, безжизненные глаза и их губы, приоткрытые в широкой хищной улыбке. Неторопливо равномерными шагами они направлялись ко мне.