Душная пыточная зима
Отрывок из книги Леонида Зорина «Ничего они с нами не сделают»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Леонид Зорин. «Ничего они с нами не сделают» (Драматургия. Проза. Воспоминания). М.: Новое литературное обозрение, 2024. Содержание
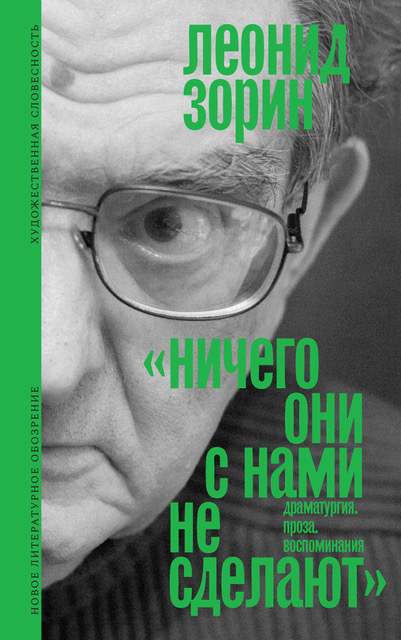 С надеждой на то, что увижу премьеру в Москве, вступал я в новый, пятьдесят третий. Но — кончились школьные каникулы! Настало тринадцатое января.
С надеждой на то, что увижу премьеру в Москве, вступал я в новый, пятьдесят третий. Но — кончились школьные каникулы! Настало тринадцатое января.
Я помню этот студеный день, нахлобученные на уши шапки и поднятые воротники, помню нахохлившихся людей, угрюмые суровые лица, закаменевшие глаза, сторожкие короткие фразы, мрачные стайки у стендов с газетами — столица узнала о деле врачей.
Нечеловеческое злодейство! Эти вампиры в белых халатах морили своими тайными ядами вождей, доверивших им свои жизни, да и не только одних вождей! Во всех поликлиниках и больницах, в собственных коммунальных жилищах советских людей поджидала беда. Вот прозвенел звонок за дверью, это пришел по вызову доктор, о, не пускайте его за порог! Этот носатый картавый ублюдок не знает ни жалости, ни участия — спокойно, недрогнувшей рукой пропишет отраву вашему мужу, вашей жене, вашему сыну. И люди в который раз — поверили. Надо ли их за это винить? Их долго школили, и их вышколили, сделали все, что было нужно, чтобы тринадцатого января они все приняли и содрогнулись. Спустя неделю во всех углах благословляли святое имя бесстрашной Лидии Тимашук, разоблачившей негодяев. (Сразу же вспомнилась — очень возможно, по некоей фонетической близости — преследовательница несчастного Бейлиса, та была Верой Чибиряк.) Публицистка Елена Кононенко в статье «Почта Лидии Тимашук», напечатанной в честной «Правде», рассказала трогательный эпизод — в квартире спасительницы народа раздался телефонный звонок. Голос, захлебывающийся от волнения, прочувствованно проговорил: «Спасибо за то, что спасли вы честь нашему белому халату». После чего благодарный врач, не назвав себя, скромно повесил трубку.
Конечно, не стоит преувеличивать роли этой жалкой наемницы, но, чтоб с готовностью дать свое имя такой чудовищной провокации, нужно иметь особые свойства. И я не испытываю сочувствия к этому «маленькому человеку». Да и нуждалась ли в нем эта дама? Несколько десятилетий спустя я видел занятную фотографию, опубликованную в газете. Тимашук была запечатлена на даче, на заслуженном отдыхе. Рыхлая коренастая женщина с довольной, безмятежной улыбкой вольготно возлежит в гамаке.
По странной прихоти обстоятельств я мог догадаться о том, что нас ждет, еще в декабре, за месяц до бури. Я приятельствовал с ныне покойным шахматным мастером Загорянским. То был блистательный дилетант, способный решительно ко всему, однако — ко всему понемногу. Какое-то время он был инженером, но быстро понял, что эта деятельность с ее обязательствами, жестким графиком, с авралами и штурмовщиной бесповоротно не для него. В юности он занимался боксом, достиг в нем некоторых успехов, но очень быстро оставил бокс, который мог повредить его внешности — он был, бесспорно, хорош собою. Неплохо переводил с французского, знал его, как родной язык, писал, разумеется, и пьесы — одна из них даже шла на сцене. Нишу свою обрел он в шахматах, мастером стал сравнительно быстро, на большее и не посягал, очень ценил свое сибаритство. Поигрывал в различных турнирах, корреспондировал, а однажды взял да и выдал повесть о Морфи — американском шахматном гении. Тут ему, надо сказать, подфартило — повесть он успел напечатать за месяц или два до начала священной войны с низкопоклонством перед Западом и его кумирами. Он был человеком графских кровей, чего не подчеркивал, но и не скрывал — да как и скрыть, когда так безупречно воспитан.
Он был женат на прекрасной женщине, очень известном враче-ларингологе Валентине Александровне Фельдман — ее искусству были доверены все голоса Большого театра. Еще более знаменит в этой сфере был отец Валентины Александровны, старый профессор Александр Исидорович. Когда в декабре он был арестован, я узнал об этом от Загорянского. Обвинения были самые страшные и совершенно непостижимые. Я задал достаточно глупый вопрос: «Что же это все обозначает?» Загорянский ответил мне в лучшем стиле: «Сегодня арестовали его, а завтра арестуют всех тех, кто выдумал это темное дело».
Какое дело? Что тут таится? Все стало ясно в январский день, когда я прочел о врачах-убийцах. Профессор Фельдман был среди них.
Душная пыточная зима! Трудно было ходить по улицам, ходить в театр на репетиции, встречаться с людьми глаза в глаза. Однажды я столкнулся с Охлопковым. Он сразу же, с ходу заговорил:
— Да-а, удивительные дела! Я отдыхал недавно в Барвихе, вернулся оттуда, все время дергаюсь. Что ж это, думаю, за напасть? Почти без паузы — дерг-дерг, дерг-дерг! Теперь все ясно — профессор Коган! Я ведь лечился там у него.
Его громадные очи навыкате смотрели приветливо и открыто. Я всматривался в них, точно надеясь нечто прочесть в их глубине. Смеется он, шутит, мистифицирует? Нисколько. Абсолютно серьезен.
Могу засвидетельствовать, что сограждане — их безусловное большинство — приняли версию властей. Август Бабель, умный, опытный немец, сказал когда-то, что «антисемитизм — социализм дураков». Нет спора. Но тут еще надо заметить, что глупость отвечала потребности. Хотелось иметь мишень для стрельбы.
Кто только не задавал вопроса, как эта духовная Германия могла поверить Адольфу Гитлеру! Поверила, ибо хотела поверить. Это отлично поняли те, кто дураками манипулировал. Можно сказать, что ксенофобия — песнь песней массового сознания.
Чем ближе клонилось время к премьере, тем небо становилось чернее от все крепчавшей этнической ненависти. В моей пьесе один молодой человек заявлял — поистине с удивительной дерзостью, — что «Интернационал» — его любимая песня. Деятель культурного ведомства, наделенный цензорскими правами (кто ими, впрочем, не обладал?), призвал меня перед белые очи, свистящим голосом вопросил, что я имею этим в виду. Но я был готов к такому вопросу, в этой обстановке безумия он не казался уже невозможным. Я сказал: «Ведь это же партийный гимн». Мы молча смотрели один на другого, он — исходя неизбывной злобой, я — чтобы запомнить его навек. Соломенного цвета волосенки, ровно зачесанные назад, крохотный лобик, кроличьи глазки, невыразительные черты, пустое портяночное лицо под стать его портяночной речи — достойный плод советской селекции, куда ни глянь — его близнецы. Впоследствии я прочел у Репина восхитительную по точности фразу: «Эти отродья татарского холопства воображают, что они призваны хранить исконные русские идеи...»
<...>
Второго марта было объявлено о том, что Сталин серьезно болен. Два дня прошли в непонятном затишье, никто не знал, какою должна быть реакция на это событие. Понятно, что советским людям надо бы выглядеть озабоченными, однако не надо и горевать — вождь, несомненно, скоро поправится. Во всяком случае, никто не решился закрыть назначенный на четвертое общественный просмотр комедии. В зале осторожно смеялись.
А утром следующего дня держава узнала, что Сталина нет. Ее расставание с мертвецом длилось четыре ужасных дня, отмеченных новой волной арестов и страшной бойней на Трубной площади, когда обезумевшие толпы, хлынувшие к Колонному залу, давили людей и шли по телам. (Никто и не вспомнил, что в этот день свалилось на нас настоящее горе — умер композитор Прокофьев.)
Это надгробное радение с его истерической демонстративностью было расплющено и растоптано и точно унялось, изошло в этом прощальном заклании жертв.
Короткое дыхание горя в общем-то легко объяснялось: не было настоящей любви. Не сочиненной и не раздутой песнями, одами и речами, громогласно заверяющей в преданности, а той, что целомудренно прячется в твоей заповеданной тишине. Было тотальное помешательство, было тупое идолопоклонство, унизительное для нормальных людей, было ритуальное действо громадной религиозной секты, раскинувшейся на необъятных пространствах. Если в горячке самовнушения и пролилось на мерзлую почву несколько искренних слезинок, то были это слезы о молодости, о жизни, прошедшей под этой рукой, которая нынче уходит навеки. Страна устала от каждодневной молитвы.
О, как я отчетливо его помню! Этот неопределимый голос, даже и не поймешь какой — не то что высокий, но и не низкий, эту им найденную манеру вещать банальности как откровения. С какой беспредельной многозначительностью ронял он свои плоские фразочки — хотя бы подобие мысли, мыслишки! Но все работало на него — его интервальчики между словами для придания им пущего веса, его акцент, небольшая ладонь, поглаживающая подбородок, и эти узкие злые глазенки, изображающие добродушие. Его неизменное «товарищ Сталин» — так он о себе говорил, «можете не сомневаться, товарищ Сталин оправдает доверие партии, доверие народа» — кто ж усомнится?
В какую бездонную пропасть безвкусицы надо было упасть его подданным, чтобы вознести эту темную душу, это самодовольное чудище!
Что это — завороженность силой? Об этой силе столько написано, и все же с годами во мне все больше крепла и прояснялась уверенность, что в этой выдуманной фигуре и сила была неподлинной, сыгранной, что сплошь и рядом так называли его угрюмую паранойю. Не зря нелюбимый, несчастный Яков уже в двенадцать лет заявил, к ужасу семейства и челяди: «А знаете, папа — сумасшедший».
Конечно, он мог подчинять людей, конечно, он мог приводить толпу в состояние невменяемости, но эта сила успешно складывалась из двух равновеликих частей, которые питали друг друга, — его жестокости, его страха. Страшился мести, страшился охраны, страшился дорог и мест ночлега, а больше всего — своих рабов, столь презираемого им народа. В сильном человеке жил слабый.
Скорее всего, и в революцию он кинулся от своей неуверенности. Что это не был порыв гуманиста, взглянувшего вдруг окрест себя и уязвившего свою душу тоской и страданием человечества, это теперь понятно любому. Спертым воздухом подполья и заговора ему дышалось легче, естественней, свободней, но тайная суть одна: в мире устроенном и прочном он не видел ни будущего, ни места.
Сильный человек убивал, экспроприировал и злодействовал, слабый боялся и предавал, отрекался от семьи, от любви, от дружбы, терзался своею посредственностью (он понял ее еще в дни рифмоплетства) и тем, что сам ее ощущает, слабый человек опасался: однажды этот секрет откроется, в любой усмешке он чуял угрозу — слабость разгадана, обнаружена, враги нашли уязвимое место!
Чем неотступней был этот страх, тем большей была и его беспощадность. Чем был он свирепей, тем больше дрожал, тем напряженнее ждал удара, ведь недруги еще на свободе, еще далеко не всех распознали — «идиотская болезнь — беспечность!».
Не знаю, была ли ему известна блестящая формула Шарля де Голля: «Не нужно вечно решать проблемы, нужно уметь с проблемами жить». Нет, он бы до этого не додумался и никогда не смог бы так чувствовать. Жить с проблемами — по плечу и по росту истинно сильному человеку. Для слабого такое немыслимо.
В счастливейшие дни его жизни, когда наконец испустил дух возненавидевший его Ленин, он стремительно осуществил идею «ленинского призыва» и широко распахнул врата в святилище «ордена меченосцев» (так сам он определял свою партию). Он как никто разгадал возможности, заключенные в гениальном лозунге «Кто был ничем, тот станет всем». Он знал, на кого надо сделать ставку, чтобы рухнуть однажды в бездну. Меченосцев следовало утопить в толпе недоумков, середняков, безликих, готовых на все карьеристов. Иные из меченосцев были, бесспорно, отмечены дарованием, и в этом одном уж был их вызов, угроза, скрытая до поры. Он знал, что они над ним посмеиваются, и знал, что от них надо избавиться. Для этого он изобрел свою формулу, более емкую, чем деголлевская: «Нет человека — нет проблемы».
Он вытоптал неоглядное поле, он скашивал любую траву, даже и ту, без которой ему нельзя было обойтись самому, уже не мог остановиться. Он знал, что войны не избежать, что грянет она, неминуемо грянет, и все равно истребил лучших маршалов, затем — генералов, потом полковников, он даже майоров пускал в распыл. В июньское утро он встретил врага с обезглавленной, обесчещенной армией. «Нет человека — нет проблемы».
До сей поры невозможно понять исступления Большого террора. Тут все смешалось и все сплелось.
С одной стороны, убежденный расчет на то, что насилие может все — дать хлеб, дать металл, дать покоренную, нерассуждающую страну, не только покончить с любой полемикой, но и самую мысль о ней сделать крамольной. С другой стороны, желание славы, жажда первенствовать и ненависть, неутолимая, неуправляемая, ко всем, кто дышит, думает, чувствует, не испросив его дозволения.
Конечно же, на его стороне были решительно все козыри: люди и со своими пороками все-таки остаются людьми, им не под силу сражаться с монстром, не ведающим никаких тормозов, не признающим обязательств — ни перед ними, ни перед небом, ни даже перед самим собой.
Зато и звезды ему улыбались и карта шла ему в цвет и в масть. И даже смертельная война, которой он так безгранично страшился, что мог самых верных своих шпионов проклясть за недоброе донесение, даже кровавое это торжище, перемоловшее полстраны, ему послужило, его прославило и, больше того, дало палачу почти фантастическую возможность навеки обелить свое имя.
Победа не может быть безымянной, а для народа, прошедшего школу обожествления вождей, образ Сталина обозначал победу. Благодарность не хочет быть растворенной в подвиге недрогнувших армий — она вся досталась этому имени. Эта усатая богиня Нике, умостившая путь к своему триумфу по меньшей мере тридцатью миллионами жертв, в ослепленном восприятии массы и впрямь стала богочеловеком.
Ему бы сделать естественный шаг — хотя бы чуть отпустить узду. Хоть вздох сострадания, тень покоя, горсть воздуха после тридцатилетнего яда! — и как бы благодарно взметнулись неприхотливые сердца, все позабыв и все отпустив — и смерть, истребившую полгосударства, и эту распятую, нищую жизнь.
Но этого было ему не дано, в этом было бы что-то от человека, а он уж давно перестал им быть. Да и устоять его крепость могла лишь в осаде, бессоннице, в сече, иначе, по его убеждению, она бы зашаталась и пала. Он сознавал, что необходимо дать обескровленному народу хотя бы какую-нибудь компенсацию за все, что он отнял, за все, что обрушил. Но и мысли в нем не было укрепить в огромной разноязыкой стране возникшее чувство единой семьи, спасавшее ее в дни лихолетья.
Он ничего не сумел предложить, кроме давно известного средства, вполне отвечавшего тайным пропастям его непознаваемой сути. Все та же подачка Больному Этносу — пусть он почувствует себя первым среди второсортных национальностей. А кстати и вечный громоотвод, вечную палочку-выручалочку тиранов, запутавшихся игроков и всяческой разномастной сволочи — разнузданное антисемитство. Так же поступят однажды и Готвальд, и обанкротившийся Гомулка, а в наш демократический век — все новоявленные нацисты.
Однако и этот обман всех надежд не стал последним его преступлением. Когда я думаю, чем увенчал он ужасный свиток своих злодейств, то все отчетливей понимаю — созданием нового человека. Новый советский человек — это не вымысел, не фантом, не выдумка пропагандистов. Новый советский человек способен, зная уже про все, про все океаны пролитой крови, все так же носить портреты Отца и так же благословлять его имя.
За что же он отдал Сталину сердце? Он навсегда ему благодарен за то, что Сталин освободил его от самой мучительной из обязанностей — обязанности совершить свой выбор. Не выбирать, что думать, как чувствовать, не выбирать, как поступать. О, это благословенное право отныне не ощущать ответственности ни перед миром, ни перед собою даже за собственный век на земле! И с этим сталинским человеком нам предстоит еще долго жить.
Сбылось предсказание Загорянского. Через месяц после кончины вождя Александр Исидорович снова был дома, а его тюремщики — за решеткой. «Поздней весною грачи прилетели» — то была тогда ходовая шутка. В электричках веселые пьяницы пели: «Зря тебе трепали нервы, Кандидат наук, Из-за этой жуткой стервы Лидки Тимашук». Пять или шесть газетных строчек прозвучали праздничным благовестом — люди моего поколения, даже и те, кто был постарше, не раз и не два потом признавались, что не было в жизни весны прекраснее.