Для Америки Россия давно является непостижимым Другим
Фрагмент книги Кэрил Эмерсон «Очерки по русской литературной и музыкальной культуре»
Кэрил Эмерсон. Очерки по русской литературной и музыкальной культуре. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2019. Перевод с английского Ирины Буровой, Андрея Разина
Я впервые побывала в России в 1956 году. Можно сказать, случайно. Я была совсем юной тринадцатилетней девочкой. Родители позволили мне сопровождать в поездке мою бабушку по материнской линии, которая записала нас на организованное в пропагандистских целях короткое турне по СССР (с посещением только двух столиц, тщательно распланированное и, разумеется, сопровождавшееся слежкой; это было через три года после смерти Сталина). Я была единственным членом группы моложе 50 лет. Я ничего не знала о мире. Например, мне никогда не приходило в голову, что в разных странах могут пользоваться разными алфавитами.
Вместе с двумя сестрами и братом я росла в сельском Канзасе, а позднее — в Рочестере, в северной части штата Нью-Йорк, где мой отец получил степень доктора философии по композиции в музыкальной школе Истмена и остался преподавать. Мама полностью посвятила себя домашним заботам. У меня было здоровое детство, проведенное «в провинции»; в те времена дети взрослели медленнее. Однако в нашей шумной семье я казалась одиноким, мечтательным ребенком; я писала стихи, и к тому времени, когда я достаточно подросла для путешествия в Россию, меня совсем не привлекала современная американская культура. Мне кажется, тогда в Америке всего было в избытке: слишком много праздников, слишком много шума, слишком много свободы и секса, слишком много развлечений; слишком много материальных ценностей, времени и душевных сил расходовались впустую. Меня просто поразила та Россия, которая открылась мне во время нашей с бабушкой поездки по «потемкинским деревням» (Восточный Берлин, Москва, Ленинград). Казалось, что Америка заботится только о том, чтобы наслаждаться жизнью, а тут была пугающая, израненная, суровая страна, в которой все строго контролировалось и подвергалось цензуре. Тогда вся эта нужда и строгость казались мне привлекательными и захватывающими, даже какой-то добродетелью, и я не видела в них ничего ужасного. Даже коридорные в гостиницах говорили на четырех языках (разумеется, они были информаторами спецслужб, но я ничего об этом не знала). Русские идеалы были суровыми, достижения — героическими. У них были Мусоргский, Шостакович, Толстой, московское метро с дворцовыми интерьерами; у нас — трущобы, Голливуд, комиксы, порнография, пластиковые отходы ресторанов быстрого питания и казино.
В университете я выбрала русистику, изучая разнообразные дисциплины: сначала — историю России, затем — русскую музыку и, наконец, русскую литературу. По духу это была моя культура. С 1970-х годов, когда я сама стала преподавателем колледжа, я начала возить студенческие группы в Москву, Ленинград, однажды даже в Иркутск. Эти поездки в последнее десятилетие репрессивного застоя глубоко волновали нас, потому что мы всегда были не просто обычными туристами. Мы могли помочь людям, а не просто сфотографироваться на фоне памятников. Мы постоянно ощущали беспокойство из-за опасности подвергнуться личному досмотру или нарваться на телефон с прослушкой в квартире «отказника». Мы встречались без посторонних с такими писателями, как Андрей Амальрик. И мы могли привозить «ценные вещи» (литературные тексты, письма и товары) тем, кого ценили. Вспоминаю один случай в Корнелльском университете, произошедший в 1960-х годах: одна трудолюбивая русская эмигрантка, учительница музыки, с раздражением сказала мне, что в Америке очень сложно сделать что-то для человека, очень сложно сделать подарок, который представлял бы собой ценность. Здесь, в США, можно без проблем купить все что угодно. Семьи сами покупают все, что нужно, а затем идут домой и закрывают за собой дверь, сказала она и ностальгически добавила, что в России, где на все всегда был «дефицит», приобретение свежего лимона, грозди бананов или рулона туалетной бумаги в подарок приятелю превращалось в повод для праздника. Не надо было заранее договариваться о времени визита, как это принято в Америке — стране заборов, охраняющих личное пространство. В России вы всегда были желанным гостем, вы просто приходили, радуясь своему подарку. Таково было мое второе впечатление о стране после серьезности и способности к созиданию: щедрость. Поскольку я была интровертом и всегда закрывала все двери, чтобы мне не мешали, русские — по контрасту — казались поразительно открытыми, способными творить и мыслить в самых невозможных условиях. <...>
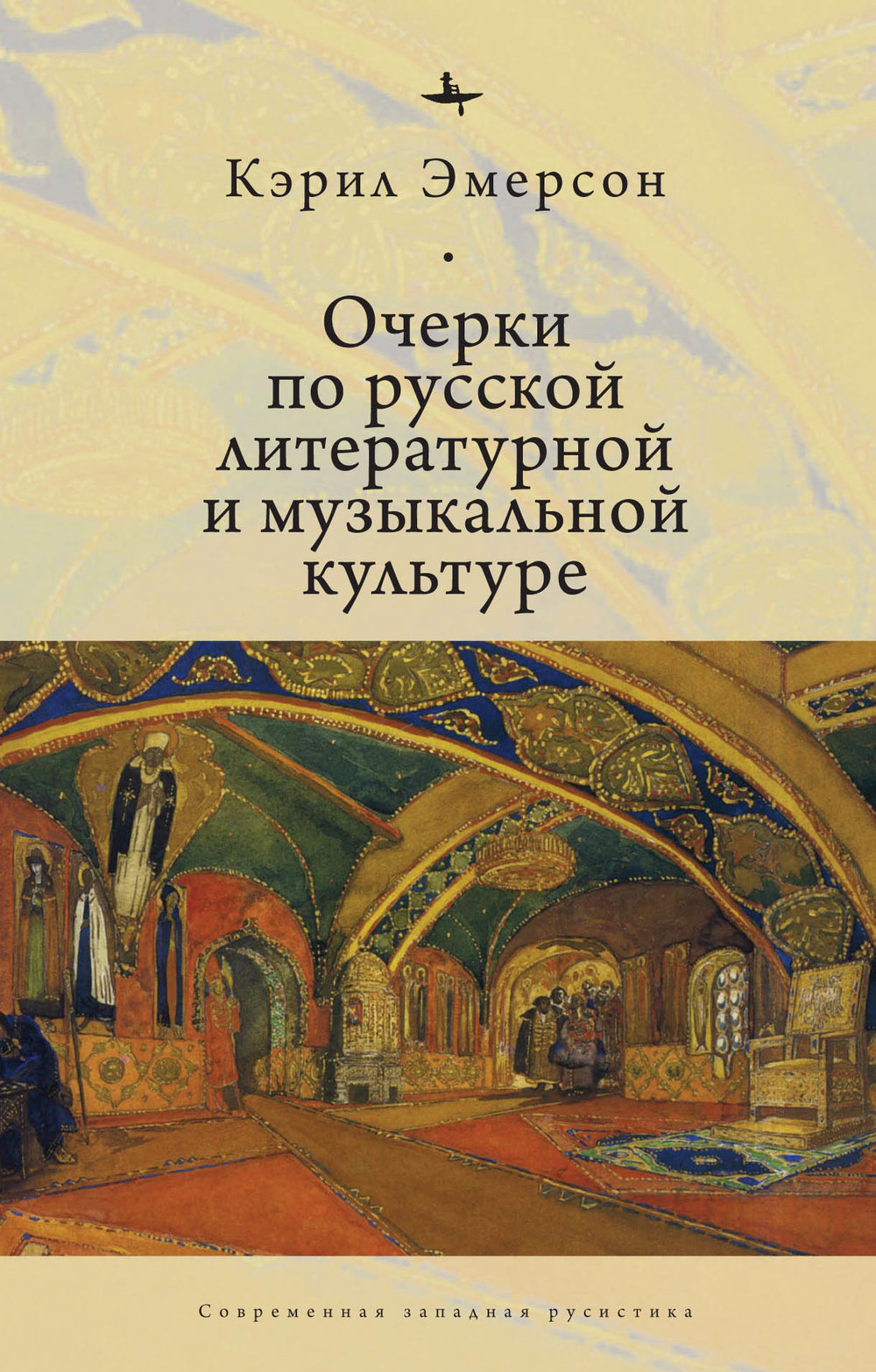 Огромное влияние, которое позднее оказал на меня Михаил Бахтин, началось с работы по заказу издательства. Бахтин умер в Москве в 1975 году. В то время я была докторантом в Техасском университете и (как и весь остальной мир) разве что слышала это имя. И вновь, так же, как это было в 1956 году с пугающим и несвободным Советским Союзом, я полюбила Бахтина потому, что он был совсем не похож на все, что меня окружало, — в данном случае на литературоведческие направления: структурализм, постструктурализм, деконструкцию. Все они были безликими. У них были системы, но не было лица. У Бахтина было лицо и тело; когда он писал о «высказывании», он имел в виду не просто часть организованной системы, но личное обязательство, составленное из слов. Работая под руководством Майкла Холквиста, я смутно ощущала, что для Бахтина изучение письменной культуры было делом жизни, а не карьеры. Я начала переводить его. <...>
Огромное влияние, которое позднее оказал на меня Михаил Бахтин, началось с работы по заказу издательства. Бахтин умер в Москве в 1975 году. В то время я была докторантом в Техасском университете и (как и весь остальной мир) разве что слышала это имя. И вновь, так же, как это было в 1956 году с пугающим и несвободным Советским Союзом, я полюбила Бахтина потому, что он был совсем не похож на все, что меня окружало, — в данном случае на литературоведческие направления: структурализм, постструктурализм, деконструкцию. Все они были безликими. У них были системы, но не было лица. У Бахтина было лицо и тело; когда он писал о «высказывании», он имел в виду не просто часть организованной системы, но личное обязательство, составленное из слов. Работая под руководством Майкла Холквиста, я смутно ощущала, что для Бахтина изучение письменной культуры было делом жизни, а не карьеры. Я начала переводить его. <...>
В 1986 году я начала преподавать в Принстоне. В течение нескольких лет я читала лекции с «музыкальными иллюстрациями» (то есть пением) по вокальному репертуару XIX века, добавляя к нему некоторых великих композиторов XX столетия, в том числе Шостаковича, представления о котором на Западе в то время были весьма неоднозначными. После падения Берлинской стены я читала курсы, посвященные славянским литературам Центральной Европы (польской, чешской, югославской). Случайный заказ на исследование оперы по историческому роману Пушкина «Арап Петра Великого», созданной в 1940–1950-х годах русским эмигрантом Артуром Лурье, композитором-символистом (а позднее модернистом и минималистом), вылился в четырехлетнее страстное увлечение творчеством и личностью поклонника, наставника и духовника Лурье, теолога-неотомиста Жака Маритена — и этот интерес не ослабел по сей день. Большое число аспирантов, а также параллельное преподавание на отделении сравнительного литературоведения и задача донести русский подход к культуре до аудитории с разнородными интересами привели к расширению сферы моей профессиональной деятельности. Я уделяла больше времени своему давнему увлечению русской философией. В связи с амбициозными междисциплинарными театральными проектами, осуществленными в Принстоне (тексты Пушкина и музыка Прокофьева), я обратилась к новым областям исследования (русский театр XX столетия) и взялась за новых авторов (Сигизмунд Кржижановский). <...>
Для Америки Россия давно является непостижимым Другим — быть может, более смелым в философских исканиях, с более драматической судьбой, но все же достаточно похожим на нас, чтобы можно было проводить сравнения, понятные каждому. Классические аспекты этого «соперничества равных» были сформулированы французским аристократом Алексисом де Токвилем в 1830-х и актуализированы литературоведом Джорджем Стайнером в 1950-х годах. Они звучат приблизительно так. Прирастающие территориями субконтиненты России и Северной Америки, обретя литературное самосознание в XVIII веке, определяли себя в соотнесении с тем маленьким, четко очерченным, пропитанным кровью уголком мира под названием Северо-Западная Европа, который лежит между ними и который сыграл роль культурного колонизатора для обеих стран. В отличие от густонаселенной Европы, никогда не удалявшейся от пределов цивилизации и берегов моря, по которому можно посылать свои канонерки, у России и Америки были обширные, не нанесенные на карту внешние фронтиры на суше, русский дикий Восток и американский Дикий Запад, одновременно выполнявшие функцию предохранительных клапанов и рынков сбыта. Этот факт запечатлелся в национальной душе, став источником страха и великой гордости.
С точки зрения Европы эпохи Просвещения американцы и русские оставались народами полудикой периферии, неотесанными, наивными и чувственными. Их экономика основывалась на рабском труде, представления были грубоватыми и прагматичными. Великие американские и русские романы не могли довольствоваться изображением частной жизни в мире капиталистического накопления, которое заняло центральное место в английском викторианском романе, а в континентальной Европе (после того, как революционно-наполеоновский сюжет исчерпал себя) — в вырождавшемся натурализме. Русско-американская «периферия» продолжала впитывать героический дух из фольклора, мелодрамы и религии еще долгое время после того, как связанные с экстазом источники вдохновения стали слегка смущать утонченных, скептически настроенных европейцев.
Разумеется, в этой концепции многое упрощено. В современном мире глобального доступа в интернет и мгновенной обратной связи огромные географические пространства играют гораздо меньшую роль, чем в прежние времена. Но в тех случаях, когда образ мыслей запечатлевается в великих произведениях искусства, он сохраняется от века к веку и обретает авторитет. Надеюсь, что эти страницы найдут путь к сердцам русских читателей, привлекая их внимание к тем деталям и привычным представлениям, которые, возможно, все видят, но не замечают — как это часто бывает дома. Такие открытия не спасут наш общий мир. Но проведут нас по нему удивительными и неизведанными тропами.
<...> В 1927 году Шостаковича, которому тогда был 21 год, попросили заполнить анкету о его отношении к другим видам творчества. По поводу литературы Шостакович написал: «На первом плане склонность к литературе прозаической (поэзию совершенно не понимаю и не ценю...): „Бесы”, „Братья Карамазовы” и вообще... Достоевский; наряду с ним Салтыков-Щедрин; в ином плане Гоголь... Далее Чехов. Толстой как художник несколько чужд (как теоретик искусства во многом убеждает)». С возрастом композитор стал больше ценить поэзию, но любовь к прозе упомянутых авторов не ушла. «Несмотря на то, что его, как правило, считали творцом симфонической музыки, — пишет Эсти Шейнберг в своем недавнем великолепном исследовании иронии в музыке Шостаковича, — Шостакович представляется скорее „литературным” композитором» [Sheinberg 2000: 153].
<...> Обладая поразительной изобретательностью, Шостакович, казалось, никогда не ощущал нежелания слов ложиться на музыку, то есть исковерканности, порабощенности слов, оказавшихся во власти музыки. Эта древняя вражда, которая питала наиболее радикально «реалистическую» музыку на слова, созданную в XIX веке, преодолевается в его практике смелым и виртуозным пониманием оркестрового голоса. Оркестр у Шостаковича не ограничивается комментарием к событиям, разворачивающимся на сцене. При том что он, разумеется, использует реминисцентные мотивы, которые пробуждают у персонажа совесть или воспоминания (как, скажем, исполняемая оркестром тема Ленского, проходящая через горячечные мысли Татьяны в финальной сцене «Евгения Онегина» Чайковского), у Шостаковича инструментальная партия выполняет свои собственные, независимые задачи. Она может усиливать настроения и воспоминания отдельных певцов в их собственном настоящем. Она даже может предварять и, что называется, досрочно имитировать вокальную декламацию — как это происходит в первой картине первого действия «Леди Макбет», когда двукратный грубый взлай медных духовых из оркестровой ямы предваряет агрессивную выходку свекра, требующего, чтобы его робкий сын заставил жену дать ему клятву верности. Но оркестр может также обратиться, причем критически, к литературному сюжету, жанру или «поколениям», в рамках которых действуют эти персонажи. В самобытной русской традиции, где литературный канон не просто знали (или так казалось более разобщенному, распыленному, безразличному в культурном плане Западу), но знали назубок, жанры и поколения были четко маркированы.
Как показывают третьи действия опер «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда», Шостакович, не задумываясь, дополнял сюжетные линии классических литературных историй эпизодами, заимствованными из других текстов того же автора, периода или стиля. В музыкальном плане он часто выделял эти вставленные эпизоды с помощью жанров ХХ века — канкан, галоп, фокстрот, музыка погони к немым кинофильмам, вальс с пунктирным ритмом, — используя их в ироническом ключе. Мощная ритмическая вставка такого типа служит нескольким целям: шокировать публику, обманывая ожидания и способствуя новому подходу к психологии героев XIX века, изображаемых на сцене, или функционировать как внутрижанровая пародия. В обоих упомянутых выше третьих действиях соответствующим пародируемым объектом является оперная условность, требующая, чтобы в третьем действии наблюдалась деятельность некой «группы» (или толпы) — обычно это был танец или балетная вставка, но почему бы не погоня, комическое явление полиции, бунт? Подобная вставка могла бы даже иметь успех сама по себе, оживляя сцену в плане, весьма отличающемся от внутренней жизни героев и заражая публику чувством дающего свободу — а не только искажающего или патологического — потенциала гротеска.
Этот революционный сдвиг в конкретных отношениях слов, музыки и ритма был отмечен Борисом Асафьевым в статье-рецензии на постановку «Леди Макбет» в 1934 году, написанной вскоре после премьеры. «Ни на один миг не теряя слова из виду, Шостакович все же не увлекается внешне-описательными натуралистическими тенденциями: он не подражает музыкой смыслу слов, он не иллюстрирует, а симфонирует слово, как бы развертывая в музыке эмоцию, недосказанную словами» [Асафьев 1985: 312]. Хотя, разумеется, у Шостаковича встречаются иллюстративные и «натуралистические» моменты (печально известная «порнофония» в сцене совращения леди Макбет и смачные зевки, чихания и хрюканья в «Носе»), оценка Асафьева — верная. Произносимое слово и контекстно-обусловленное, и двусмысленное. Оно несет смысл посредством изменения формы и интонации и в каждом новом окружении может обозначать нечто новое. Таким образом, «симфонировка» склонна не упрощать, но усложнять, затруднять его интерпретацию, придавая ей временный характер. Симфонированное слово не имеет ничего общего с сопроводительной подписью к фотографии.
В музыкальной работе с русской литературой в 1920-х годах у Шостаковича был еще один союзник — кинематограф. Часто отмечается, что утомительная работа молодого композитора тапером в немом кино, в котором акцент делался на погоню, поимку, эффектные любовные сцены и прочие фарсовые или сентиментальные приемы, способствовала совершенствованию его искусства импровизатора и «рассказчика». Она также позволила ему глубоко понять соотношение между визуальным и звуковым при стремительном темпе. Однако, разумеется, верно и обратное: раннее знакомство Шостаковича с немым кино обогатило его многими приемами (помимо музыкальных), благодаря которым можно подорвать тиранию вербального знака. <...> Таким образом, задача новой оперы заключалась в том, чтобы вернуть звучание печатному слову, которое благодаря этим внетекстовым инновациям и обогатилось, и частично утратило свои возможности. Обобщая стратегии для «воплощения слова», получившие распространение к концу первого десятилетия советской власти, биограф Шостаковича Софья Хентова выделяет четыре, имевшие особое значение: декламационно-разговорный стиль вокальных партий; музыкальная драматургия, которая имитировала кинематографическую «раскадровку»; особое использование тембровых эффектов оркестра, в особенности ударных инструментов; и изобретение особого драматического гибрида, «театральной симфонии» [Хентова 1985: 198–199]. К четвертому пункту, выделенному Хентовой, следует относиться с осторожностью. Шостакович думал о чем-то совершенно отличном от музыкального театра Мейерхольда, который с таким успехом осуществил постановку «Ревизора» Гоголя в 1926 году, предоставив режиссеру полную свободу действий по изменению текста, темпа и даже драматической концепции оригинала. «Единая музыкально-театральная симфония» в том смысле, которое вкладывал в это понятие Шостакович, предполагала строгое следование замыслу автора и полученному тексту (который мог включать в себя черновики или варианты). Она также предполагала более объективную музыкальную структуру, такую, в которой, по словам композитора, различие между арией и речитативом заменяется «непрерывным симфоническим током», хотя и без лейтмотивов [Шостакович 1929].