«Далеко нам до японцев!»: быт в лагерях для военнопленных в 1905 году
Фрагмент книги о жизни одного русского офицера
А. Г. Филькин. Надпись на Евангелии. Владивосток, 2020
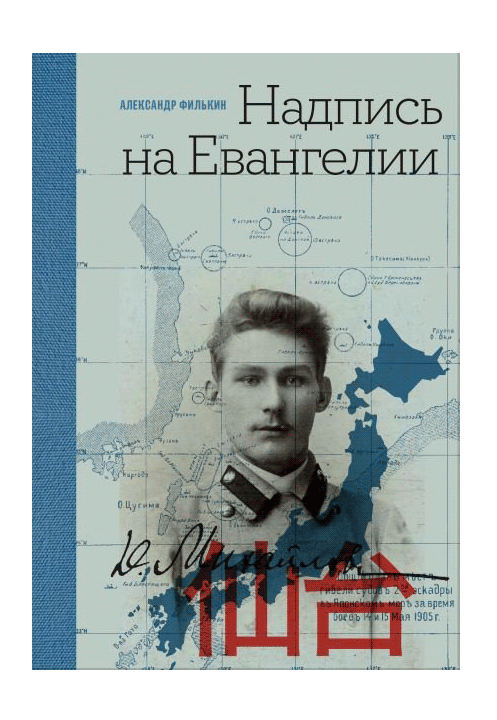 Первой остановкой для всех русских моряков, попавших в плен в Цусимском бою, был порт и военно-морская база Сасебо. Сасебо — изначально обычная небольшая рыбацкая деревенька — получил свое развитие в начале ХХ века с построением современного японского флота. К началу Русско-японской войны это была уже основная военно-морская база Японии.
Первой остановкой для всех русских моряков, попавших в плен в Цусимском бою, был порт и военно-морская база Сасебо. Сасебо — изначально обычная небольшая рыбацкая деревенька — получил свое развитие в начале ХХ века с построением современного японского флота. К началу Русско-японской войны это была уже основная военно-морская база Японии.
Здесь доставленные японскими транспортами с места сражения в Цусимском проливе русские моряки перераспределялись на пароходы и баржи с тем, чтобы последовать далее к месту своего пребывания в японском плену.
Первое, что с горечью увидели многие из них по прибытии в Сасебо, — это корабли сдавшегося японцам отряда Небогатова, стоящие на рейде под японскими флагами.
«Мое слабое перо не в силах излить на бумаге и с достаточной яркостью выразить то охватившее нас чувство стыда и горя, когда среди серых японских кораблей мы увидели черные корпуса и желтые трубы своих несчастных „Сенявина“, „Апраксина“ и несколько далее „Николая“ и „Бедового“.
И что для нас было всего больнее, это видеть, что недавние наши товарищи, sisters-ships нашего „Ушакова“ стоят под развевающимися над ними вражескими флагами без сколько-нибудь серьезных повреждений».
Так описывает личные переживания Николай Дмитриев — офицер с броненосца «Адмирал Ушаков», попавший в плен после потопления своего корабля 15 мая, команда которого, как и моряки с крейсера «Светлана», провели в воде Японского моря несколько часов до своего «спасения».
После Сасебо военнопленные моряки доставлялись в санитарные пункты на карантин, где их содержали 10–14 дней перед отправкой в назначенный лагерь. Самый крупный карантин располагался на острове Ниносима.
«Нино-Шима — небольшой островок, на берегу которого выстроено громадное количество деревянных бараков. Свезли нас на шлюпках на берег и повели в один из бараков. Здесь предложили раздеться, сдать всю свою одежду, которую сейчас же понесли в дезинфекционные печи, а нас повели в ванны, где предложили тщательно вымыться, для чего дали по куску мыла и по две тряпочки взамен губок. По окончании мытья [мы] накинули на себя кимоно, прошли в другое отделение и там сейчас же нам привили оспу; затем принесли нам продезинфицированную нашу одежду, мы оделись и в сопровождении нескольких чинов перешли в другой район острова, где размещались жилые бараки, и там нам отвели посещение — отдельный барак для штаб-офицеров и отдельный — для обер-офицеров. Тут мы застали офицеров с нашей эскадры, прибывших сюда три-четыре дня ранее < ... >» — пишет другой участник Цусимы, капитан 2-го ранга Георгий Авенирович Ивков, старший офицер эскадренного броненосца «Сисой Великий», также погибшего в сражении.
«Пункт этот — Нино-Шима, как оказалось, временный, пересылочный, и здесь нам пришлось прожить то время, пока готовились более постоянные помещения для пленных в различных городах Японии. Хорошо помню впечатление, произведенное на меня всеми этими манипуляциями, которые проделали с нами до сих пор: я восторгался той организацией, которая всюду бросалась мне в глаза, и невольно навертывалась мысль „далеко нам до японцев!“. Ну разве мыслимо что-либо подобное у нас: неожиданный наплыв нескольких тысяч пленных, и сразу все уже готово — и помещения, и постели, и одеяла, матрацы, ванны и т. п., и даже москит-гаузы. И при этом ни малейшей суеты, ни замешательства, ни путаницы — и ни одного городового! Со стороны народа и даже мальчишек не было и намека на какие-либо насмешки, действующие на самолюбие замечания, выходки или что-либо подобное < ... >».
Несмотря на такую хорошую, согласно описанию Г. Ивкова, организацию размещения военнопленных, сама обстановка пребывания в карантине, со слов Н. Дмитриева, была тяжелой:
«Всего нас прибыло около пятидесяти офицеров с разных погибших кораблей, а также большое число кондукторов.
Бараки, в которых нам было предложено разместиться, представляли из себя большие деревянные здания с камерами на 30–40 человек.
Вдоль стен были длинными рядами установлены тесно сдвинутые койки, которые за их ширину и жесткость слыли у нас под именем биллиардов.
В проходах стояли простого дерева столы и скамейки.
На стенах бараков были развешены правила для военнопленных, а также выражалось извинение и сожаление японского правительства в том, что оно лишено возможности предоставить нам больше удобств в этом временном помещении.
И хотя на особенное неудобство пожаловаться нельзя было, но, благодаря скученности и установленному японцами крайне стеснительному режиму, жизнь в Ниношиме была очень тяжела.
В 6 часов утра около бараков раздавались красивые, но донельзя назойливые звуки трижды повторяемого японского сигнала, после которого надо было вставать, т. к. в 7 часов уже подавался утренний завтрак.
< ... > Книг у нас почти никаких не было, писем писать не разрешалось, и вот почти все время между едой проводилось в разгуливании по набережной, единственному месту, где можно было хоть сколько-нибудь поразмяться и сделать, как было написано в японских правилах, „обязательный внекомнатный моцион“. Но я представляю судить читателю, каков был этот моцион, если между будками часовых от одного конца набережной до другого можно было сделать всего лишь сто шагов.
И вот на этой-то площадке, ограниченной еще столбиками с надписью „запрещается nостороннним пройти отсюда к северу, или югу, или в ином направлении“, — на этой площадке толпилось с утра до вечера сорок человек, удрученных только что происшедшей катастрофой разгрома эскадры и обреченных на полную бездеятельность и неизвестность.
Тяжелое время и лучше его не вспоминать!..»
Среди прочих неудобств в Ниносиме, очень непривычной для русских офицеров, была японская еда, тем более что речь идет о рационе для военнопленных. Конечно, в то время, в отличие от наших дней, за пределами Японии и уж точно в России японская кухня и кулинарные вкусы были совершенно неведомы для наших соотечественников:
«Нас кормили три раза в день, и все три раза подавалось совершенно одно и то же: отвратительного вкуса горячая вода с луком, которая должна была изображать из себя суп, а затем еще более скверное вареное мясо, сдобренное японской соей. Заканчивался подобный завтрак и обед какой-то мутной, землистого вкуса, горячей жидкостью, которая у японцев называется то чаем, то кофе и про которую у нас говорили, что „если это чай — то дай мне кофе, а если кофе — то дай чаю“.
Но как бы ни был назван этот напиток, все равно к употреблению он не годился, и скоро почти никто не питался в столовой, а пробавлялись все яичницами и различными консервами, которые нарасхват покупались у торговавших на славу маркитантов. Ну и разбойники же были эти маркитанты, драли за все безбожные цены, так что не раз даже приходилось прибегать к содействию японских офицеров, несколько умерявших аппетиты своих соотечественников».
То что Дмитрий Михайлов был в числе этой партии пятидесяти офицеров с погибших кораблей эскадры, как об этом ранее упомянул Н. Дмитриев, подтверждается далее в продолжении его рассказа. Напомним, что всего после Цусимы спаслись десять офицеров крейсера «Светлана».
«< ... > нам было объявлено, что 5 июня двадцать офицеров будут отправлены в находящийся на севере Нипона город Сендай. В число этих двадцати были назначены девять офицеров «Ушакова», столько же со «Светланы» и добавлено еще двое с других судов. И вот к пяти часам вечера 5 июня мы собрали свой скудный, приобретенный у маркитантов, багаж и, приготовившись к отправлению в путь, ждали прибытия пароходиков, на которых мы и были к семи часам доставлены в город Ужину.
Н. Дмитриев, однако, говорит только о девяти (не десяти) офицерах «Светланы».
Дело в том, что тяжело раненный в руку старший штурманский офицер В. Дьяконов, который был в числе десяти выживших офицеров «Светланы», после боя в Цусиме, скончался в Сасебо 17 мая после операции.
<...>
Вернемся к повествованию Н. Дмитриева о путешествии из Ниносима в Сендай. Пароход доставил военнопленных в город Ужина (Хиросима). Оттуда далее предстояла поездка по железной дороге до конечного пункта назначения.
«Город Ужина представляет из себя торговый порт Хирошимы, которая является гаванью, закрытой для иностранцев.
Пройдя по рейду, заполненному массой пароходов и занятых погрузкой транспортов, наш пароходик остановился у пристани, на которую мы и вышли вместе с сопровождавшими нас до Сендая жандармами. Подождав часа полтора в каком-то здании около пристани, мы были затем под проливным дождем отведены на расположенный неподалеку вокзал, где yжe одиноко стоял назначенный для нас небольшой вагон. Это был вагон-микст, состоящий из первого и второго класса, и вот в эти-то два маленьких отделения набились мы и наши провожатые.
Вестовых поместили в багажном вагоне, и, как мы, они всю дорогу сильно страдали от тесноты.
Около 9 часов вечера на станцию пришел товарный поезд, к которому и прицепили наши два вагона, и ровно в девять часов мы тронулись в путь к месту назначения».
Русские военнопленные, да и вообще иностранцы, были в большую диковинку жителям еще недавно полностью закрытой для внешнего мира страны:
«На одной из станций, вскоре после Хирошимы, поезд остановился минут на десять. Вагон наш тотчас же был окружен толпой японцев, которые с любопытством заглядывали к нам в окна и относились весьма дружелюбно.
К нам в купе вошел какой-то молодой офицер и, с трудом объясняясь на ломаном английском языке, заявил, что хочет высказать русским морякам свое уважение и искреннее сожаление в постигшем их несчастии.
Выслушав нашу благодарность, он раскланялся и вышел, а в вагоне появилась японка с чайником в руках и принялась очень радушно угощать нас горячим японским чаем.
Очень приятно было согреться чашкой чая, так как погода была сырая и холодная, но при дальнейшем нашем следовании эти угощения, происходившие при каждой остановке и днем, и ночью, несколько тяготили нас, так как нельзя было отказываться от чашки, любезно предлагаемой какой-нибудь дамой-патронессой, членом японского благотворительного общества.
< ... > На третий день нашего пути на одной из станций произошла следующая, глубоко нас тронувшая, сценка.
Какая-то старушка-японка, совершенно седая и с замечательно благообразным лицом, стояла на платформе, держа в руках большой букет чудных ирисов.
Видя, что наш вагон прошел мимо нее, старушка бежала рядом с останавливающимся поездом и, как только он остановился, тотчас же вручила с низкими поклонами в оба купе по пучку этих прелестных цветов».
В такой казалось бы гостеприимной и идиллической обстановке проходила поездка русских моряков на поезде по японской земле. Но война есть война — по всему пути следования было заметно много полицейских и охраны:
«Видя полное отсутствие какой бы ни было неприязни со стороны толпы, наполнявшей вокзалы, мы удивлялись большому количеству полицейских, стоявших не только около поезда, но и даже и на пути при подходе к станциям.
Оказалось, как объяснил нам переводчик, эти меры предосторожности принимались вследствие того, что ранее, при проезде мукденских пленных, бывали случаи проявления злобы со стороны населения и даже в окно одного из вагонов был брошен камень, разбивший голову солдату. Но при нашем следовании ничего подобного не происходило».
Любопытно, что в качестве питания военнопленные получали знаменитые японские бенто-боксы, которые по-прежнему и более века спустя традиционно предлагаются на железнодорожных вокзалах Японии на обед в дорогу:
«< ... > выдавали нам каждому по коробке, сделанной из тончайшей щепы и заключающей в себе хлеб, кусок мяса, омлет, рыбу и зелень.
Тут же лежали и неизбежные при японской еде палочки, которыми японцы управляются с поразительной легкостью, но мы предпочитали пользоваться приобретенными еще в Ниношиме ножами и вилками.
После такого завтрака сейчас же следовал чай, наливаемый дамами, терпеливо ожидающими, пока мы кончим есть».
Путешествие наших соотечественников из Ужина до Сендая заняло трое суток. Сейчас, в современной Японии, такой путь на поезде с пересадкой занял бы всего порядка 6 часов. Очевидно, что дорога была изматывающей, этим объясняется радость прибытия в Сендай — пункт назначения и одно из мест заключений русских военнопленных во время Русско-японской войны.
«Я не стану перечислять тех неудобств, которые нам пришлось вынести за трое суток путешествия, но было оно нам очень тяжело вследствие полного отсутствия хоть малейшей возможности лечь и сколько-нибудь отдохнуть.
Но зато как же были мы счастливы, когда прибыли в Сендай, усталые и измученные, пройдя сквозь строй любопытных, несмотря на дождь, шпалерами стоявших на улицах, очутились наконец в уютных, теплых и ярко освещенных комнатах приготовленных для нас помещений. В большой общей столовой был накрыт стол и на нем сервирован чай с печеньем; сквозь раздвинутые стены виднелись хорошие кровати, столы, покрытые скатертями — вот какие были первые впечатления нашего нового жилища.
Должен сказать, что впечатления эти были самые благоприятные и, действительно, рассчитывать на такие удобства, на такую до последних мелочей доведенную предупредительность японцев к пленным было, конечно, трудно.
Помещение наше было расположено на улице Сан-банчо (третья улица) и состояло из двух больших домов, выстроенных среди сравнительно хорошего сада.
В первом двухэтажном разместились офицеры „Светланы“, во втором же — ушаковцы».