Cпор о русских мальчиках
Из книги «Интеллигенция и Церковь в России в XIX — начале ХХ века. Очерки по истории идей»
Примирятся ли в русском человеке все европейские противоречия или оному человеку, прежде чем претендовать на «всечеловеческую роль», неплохо бы получить европейское образование? Примерно так можно зафиксировать отправную точку в споре историка и публициста Александра Градовского с Федором Достоевским.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Федор Гайда. Интеллигенция и Церковь в России в XIX — начале ХХ века. Очерки по истории идей. М.: Издательство ПСТГУ, 2025. Содержание
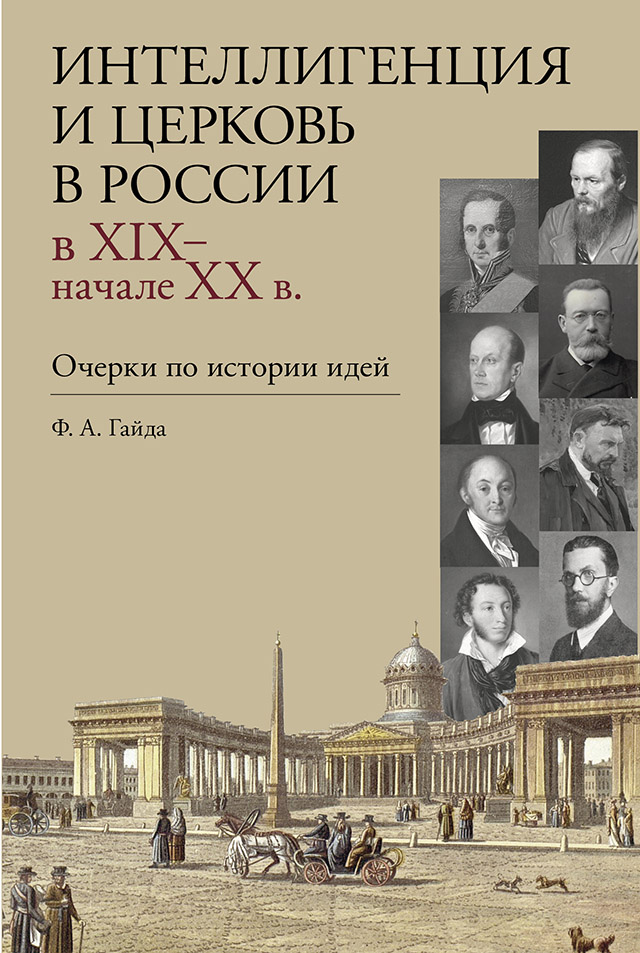
События рубежа 70–80-х годов XIX в. имели для судеб Российской империи решающее значение. Общественность была разочарована итогами Берлинского конгресса 1878 г., обвиняла в этом власть, чей авторитет в сравнении с прошедшей эпохой Великих реформ катастрофически упал. По сути, государственные верхи остались один на один с народовольческим террором. Власть не имела определенной политической программы, а возникший вокруг правительства вакуум многократно усиливал резонанс от выстрелов и бомб революционной уголовщины. В феврале 1880 г. взрыв прогремел в Зимнем дворце, что стало символом паралича государственной машины. Назначение диктатором графа М. Т. Лорис-Меликова привело к активизации правительственной политики и уже весной 1880 г. резко повысило позитивные ожидания умеренно-либеральных кругов. В первую очередь политическая программа власти соответствовала тем предложениям, которые были сформулированы в публицистике А. Д. Градовского и A. И. Кошелева.
Как уже отмечалось, в основании умеренно-либеральной политической философии лежала идея развития «нравственной личности». Эта цель могла быть обеспечена необходимыми политическими и социальными преобразованиями. Программа преобразований определялась конкретными историческими условиями, а не отвлеченными суждениями. В начале 1879 г. Градовский выступил с обширной статьей «Социализм на западе Европы и в России», где не только критиковал российских социалистов, отмечая их отличие от гораздо более конструктивных социалистов западных, но и наметил общую программу развития страны. По мнению публициста, Россия в первую очередь нуждалась в отмене подушной подати и налоговой реформе, переселенческой политике, охранении принципов судебной реформы 1864 г., развитии местного самоуправления и народного образования.
В августе, перед началом учебного года (студенческие волнения уже стали едва ли не нормой), Градовский особо обратился к русской молодежи с призывом отказаться от социалистических утопий. Молодые люди могли бы посвятить себя истинному служению народу и возглавить его. Градовский отмечал, что эту задачу не смогло бы принять на себя просто некое образованное «общество», которого «везде достаточно, и оно может быть весьма неинтеллигентно», но лишь истинная «интеллигенция», состоящая из «образованных, разумных и нравственных русских людей»: «совокупность таких умов, в которых, как в фокусе, сосредоточивается разумение всех потребностей целой страны, от верхнего ее слоя до нижнего, всех ее стремлений и задач, которые умеют дать разумную формулу всякому движению, указать исход всякому замешательству и нравственному влиянию которых подчиняются все действующие силы страны».
К тому времени Ф. М. Достоевский уже давно знал «молодого профессора» Градовского (он был на 20 лет моложе) и интересовался его публицистикой. «„Голос“ я читаю; были очень хорошие статьи», — признавался писатель в 1870 г. Н. Н. Страхову. В 1868 г. Градовский защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию «История местного управления в России», после чего стал ординарным профессором Петербургского университета. С 1869 г. ученый был постоянным сотрудником газеты «Голос», ее ведущим публицистом. В декабре 1873 г. Достоевский и Градовский в числе других общественных деятелей (всего — 29) инициировали издание сборника «Складчина» в пользу голодающих Самарской губернии. В 1876 г. писатель оставался глух к письмам «бомбардирующей» его экзальтированной дамы, выражавшей консервативные сомнения по поводу лекций Градовского об «идеалах нашего времени».
Неизвестная корреспондентка писала: «..как трудно! помочь умереть старому, поставить новое твердо на ноги и сплотиться в „дружество“. Но не велика ли эта задача на деле? По силам ли она нам? <..> Неужто древняя „истина“ с веками все более и более закутывается в свои покровы, и никто не в силах увидать и естественного, и прекрасного? Сумбур, сумбур! Да иначе и быть не может. Желала бы я увидать хоть одну голову, удостоенную откровения».
Однако вскоре сомнения по этому поводу стали одолевать самого Достоевского. Возможно, началось это тогда, когда в мае 1877 г. «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали «Письмо к профессору Градовскому», написанное представителями польской общественности: в разгар событий Восточного кризиса и обострения «славянского вопроса» они предлагали России примирение на условиях возвращения польской политической эмиграции. Достоевский отозвался об этом чрезвычайно резко: «Агитаторы-клерикалы попробовали у нас сделать демонстрацию даже через русские издания. Волки перерядились в овец и заговорили в тоне как будто посланников всей польской „эмиграции“ за границей». В марте 1879 г. Достоевский в частном письме с некоторой холодностью уже высказывался о публицистике самого Градовского: «Статья Градовского не обстоятельна, сущности дела он не понимает, но полезна, говоря относительно». Речь шла о цитированной выше программной статье «Социализм на западе Европы и в России», которая, как можно предположить, повлияла на программу Лорис-Меликова, т. е. оказалась «полезна, говоря относительно». В августе 1879 г. Достоевский писал К. П. Победоносцеву: «Я слишком понимаю, почему Градовский, приветствующий студентов как интеллигенцию, имел своими последними статьями такой огромный успех у наших европейцев: в том-то и дело, что он все лекарства всем современным ужасам нашей неурядицы видит в той же Европе, в одной Европе».
Пушкинская речь и ее последствия
8 июня 1880 г. на Пушкинском празднике в Москве Достоевским была произнесена знаменитая речь. Писатель напомнил об образах пушкинских трагических «скитальцев» — Алеко и Онегине, типе, который зародился «после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы». Они оторвались от «своей почвы» и потому несли с собой гибель. Татьяна в силу своей укорененности оказалась «глубже Онегина и, конечно, умнее его». В результате этот тип мудрого смирения оказывался достоин великого эсхатологического предназначения: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, и всечеловеком, если хотите. <..> И впоследствии, я верю в это, мы, т. е., конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал». Отсюда вытекал основной пафос речи: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве».
Речь была восторженно принята публикой, но впоследствии раскритикована в печати. Одним из первых (уже 25 июня) выступил Градовский. Публицист выдвинул два основных соображения. Во-первых, он напомнил, что «скитальцы» бежали не из прекрасного мира: «Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановские, Держи-морды, Тяпкины-Ляпкины — вот теневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многих иных. Это фон, без которого непонятны фигуры последних». Осуждая скитальческую гордыню, Градовский указывал на то, что она была порождена отсутствием возможности проявить себя. Между тем писатель о такой возможности и не говорил, потому что его «великий религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности» не подразумевала «и намека на идеалы общественные». Публицист отмечал: «Улучшение людей в смысле общественном не может быть произведено только работой „над собой“ и „смирением себя“. Работать над собой и смирять свои страсти можно и в пустыне, и на необитаемом острове. Но как существа общественные люди развиваются и улучшаются в работе друг подле друга, друг для друга и друг с другом. Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства общественных учреждений, воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести». Отсюда происходила необходимость не обращаться к народу, а народ вести к европейскому образованию. Задачу эту могла выполнить только «скитальческая» интеллигенция, получившая возможность для приложения своих усилий. Лишь после этого можно было бы ставить более крупные задачи: «Не сделавшись как следует народностью, вдруг мечтать о всечеловеческой роли! Не рано ли?» Отсюда следовало второе сомнение публициста. Градовский упрекал писателя в том, что призыв к смирению неожиданно переходил в клич: «Возвышайся!» Публицист предостерегал Достоевского от ложных пророчеств: «Словом, свершится то, чего не предсказывает и апокалипсис! Напротив, тот предвещает не „окончательное согласие“, а окончательное „несогласие“ с пришествием антихриста. Зачем же приходить антихристу, если мы изречем слово „окончательной гармонии“?»
Достоевский специально отложил публикацию очередного «Дневника писателя» ради ответа Градовскому. «Дневник» выходил впервые с 1877 г., включал в себя Пушкинскую речь, но писатель решил дополнить его текстом, в два раза превышавшим саму речь и в несколько раз статью Градовского. Однако написана статья была очень быстро, за несколько дней, и закончена уже в начале августа. Достоевский решил отвечать «не столько Градовскому, сколько написать весь наш profession de foi на всю Россию». Текст отличался резким, едким тоном: писатель явно был задет за живое. Достоевский настаивал на том, что «истинное просвещение» может быть основано лишь на учении Христа, а потому русский народ уже просвещен. Развитие образования на Западе не было отрицанием христианства, потому что от истинного христианства отказалось еще средневековое папство: науки воевали именно с папизмом. Общественный идеал, если строить его по христианской вере, никак не противоречил личному совершенствованию: в качестве примера приводилась деятельность Ю. Ф. Самарина и других общественных деятелей, принявших участие в отмене крепостного права. Секулярный общественный идеал западного типа, по мнению писателя, никак не спасал от «Держиморд». Уже в самих «скитальцах» проглядывал такой презирающий народ «Держиморда». «И настоящая полиция ведь у нас теперь либеральна», — отмечал Достоевский. Как раз в эти дни, 6 августа, была начата реформа полиции, ликвидированы Верховная Распорядительная комиссия и III Отделение, создан Департамент полиции Министерства внутренних дел, а инициировавший реформу Лорис-Меликов стал министром внутренних дел. В черновых набросках Достоевский отмечал: «Теперешний чиновник — это европеизм, это сама Европа и эмблема ее, это именно идеалы Градовских. <...> Стало быть, чтоб быть последовательными, либералам и европейцам нашим надо бы стоять за чиновника, в настоящем виде его, с малыми лишь изменениями, соответствующими прогрессу времени и практическим его указаниям. А впрочем, что ж я? Они ведь за это в сущности и стоят. Дайте им хоть конституцию, они и конституцию приурочат к административной опеке России». Таким образом, Достоевский вступался за общественную свободу и возвращал Градовскому упрек в административном диктате.
Призыв к смирению и всемирному братству, по мнению писателя, не противоречили друг другу, а были тесно связаны любовью: «Это желание-то всеслужения, стать всем слугами и братьями и служить им своею любовью — значит требовать от всех поклонения? Да если тут требование поклонения, то святое, бескорыстное желание всеслужения становится тотчас абсурдом. Слугам не кланяются, а брат не коленопреклонений пожелает от брата». Как и Градовский, Достоевский поначалу решил апеллировать к Апокалипсису: «Вы верно не дочитали Апокалипсис, г-н Градовский. Там именно сказано, что [после] во вре<мя> самых сильных несогласий не антихрист, придет Христос и устроит Царство Свое на земле (слышите, на земле) на 1000 лет. Тут же прибавлено: блажен, кто участвует в воскрешении первом, т. е. в этом царстве. Ну вот в это время, может быть, мы и изречем то слово окончательной гармонии, о котором я говорю в моей Речи. Вы [удивитесь моему мистицизму] опять скажете, что это фантастично, закричите, что это уже мистика. А не суйтесь [сами] в Апокалипсис, не я начинал, вы начали». Тем не менее этот бурный пассаж так и остался в черновике и в окончательный текст не вошел.
Градовский порывался писать Достоевскому ответ на ответ, но так и не стал. Там, в частности, опровергалась принадлежность самого публициста к чистому западничеству: «теперь на всей Руси едва ли отыщется истый „западник“ вроде Чаадаева». По-видимому, Градовский посчитал, что предмет спора по сути был исчерпан. Весьма символично, что знаменитое письмо А. С. Пушкина Чаадаеву по поводу России во всемирной истории тоже отправлено не было; на черновике поэт сделал приписку: «Ворон ворону глаз не выклюет».
В ноябре 1880 г. со своей статьей выступил К. Д. Кавелин, попытавшийся примирить два взгляда. Старый западник уверял, что западничество и славянофильство в пореформенную эпоху ушли в прошлое, а личная и общественная нравственность не могут существовать друг без друга. «Я мечтаю только о том, чтоб мы перестали говорить о нравственной, душевной христианской правде и начали поступать, действовать, жить по этой правде! Чрез это мы не обратимся в европейцев, но пере-станем быть восточными людьми и будем в самом деле тем, что мы есть по природе, — русскими», — подводил итог публицист. Тогда же свое слово сказал и И. С. Аксаков, попытавшийся в первой же передовой статье нового еженедельника «Русь» подвергнуть резкой критике всю реформистскую идеологию умеренных либералов и, в первую очередь, мысль об «увенчании здания». В ответ на это Градовский указал, что «архитектурные сравнения» ошибочны по существу, поскольку «государство, в смысле живого, народного целого, не есть здание, а известная форма общения живых людей <...> Отсюда ясно, что живые люди менее всего могут быть и должны быть рассматриваемы как „кирпичи“ для сооружения какого бы то ни было государственного здания». Иными словами, вооружаясь славянофильской идеологией, Градовский полемику прекращал. С Достоевским он спорить не хотел, а с Аксаковым, по-видимому, вообще не собирался. Тем временем Лорис-Меликов готовил такие институциональные изменения, которые вполне укладывались в логику Градовского: сочетать самодержавие с всероссийским земством. Бурно полемизировать в печати на эту тему в тот момент было бы политически неверно.
В январском «Дневнике писателя» за 1881 г. (последнем, вышедшем уже после смерти Достоевского), тональность была гораздо более мягкой: «Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе Церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский „социализм“ теперь говорю (и это обратно противоположное Церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово». Тут Достоевский сопоставлял Церковь не с народничеством, а именно с западным социализмом (о котором в свое время достаточно позитивно писал и Градовский). После этого была сделана примечательная оговорка: «И если нет еще этого единения, если не созижделась еще Церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой Церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм! Вот над присутствием в народе русском этой высшей единительно-„церковной“ идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши».
Иными словами, Достоевский соглашался с необходимостью общественного идеала. В этой связи неизбежно возникал вопрос и об образованных людях. В частном письме писатель признавался: «Нет, уж я лучше буду с народом; ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна. Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и уважает более и выше всего, что есть в мире, т. е. своего Бога и свою веру. Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать». В начале ноября 1880 г. писатель завершил работу над романом «Братья Карамазовы», который заканчивался разговором Алёши Карамазова с мальчиками: в их общении проглядывало будущее идеальное русское общество.
Главный предмет спора Ф. М. Достоевского и А. Д. Градовского — соотношение идеалов личного и общественного совершенствования. В процессе спора позиции обоих серьезно эволюционировали, сблизились. Профессор признал, что личное лежит в основании общественного. Стоит отметить, что подобная идея озвучивалась им и ранее, поскольку соответствовала умеренно-либеральной идеологии. Писатель от первоначальной темы народа и жертвенной любви перешел к проблематике свободы, общественного идеала и «интеллигенции» как необходимых условий народного развития. Накануне 1 марта 1881 г. консервативные и умеренно-либеральные круги при всех своих различиях еще умели находить точки соприкосновения.