Что могло бы быть, но не состоялось
Предисловие Михаила Ямпольского к книге «Жизнь — смерть. Лицо — тело»
В конце 2021 года в московском Музее изобразительных искусств имени Пушкина готовилась к открытию необычная выставка, которая, по замыслу ее куратора Михаила Ямпольского, должна была продемонстрировать, как на разных этапах истории искусств изображения и тексты соединялись в нерасторжимое целое, на разные лады дополняя и обогащая друг друга. Выставка так и не открылась, но подробное описание ее замысла легло в основу книги, с помощью которой Ямпольский все же решил познакомить читателей с кругом своих идей. «Горький» публикует авторское предисловие к этому изданию.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Михаил Ямпольский. Жизнь — смерть. Лицо — тело: эволюция представлений о человеке и ее отражение в искусстве. Идея выставки, которой не было. СПб.: Сеанс, 2025. Содержание
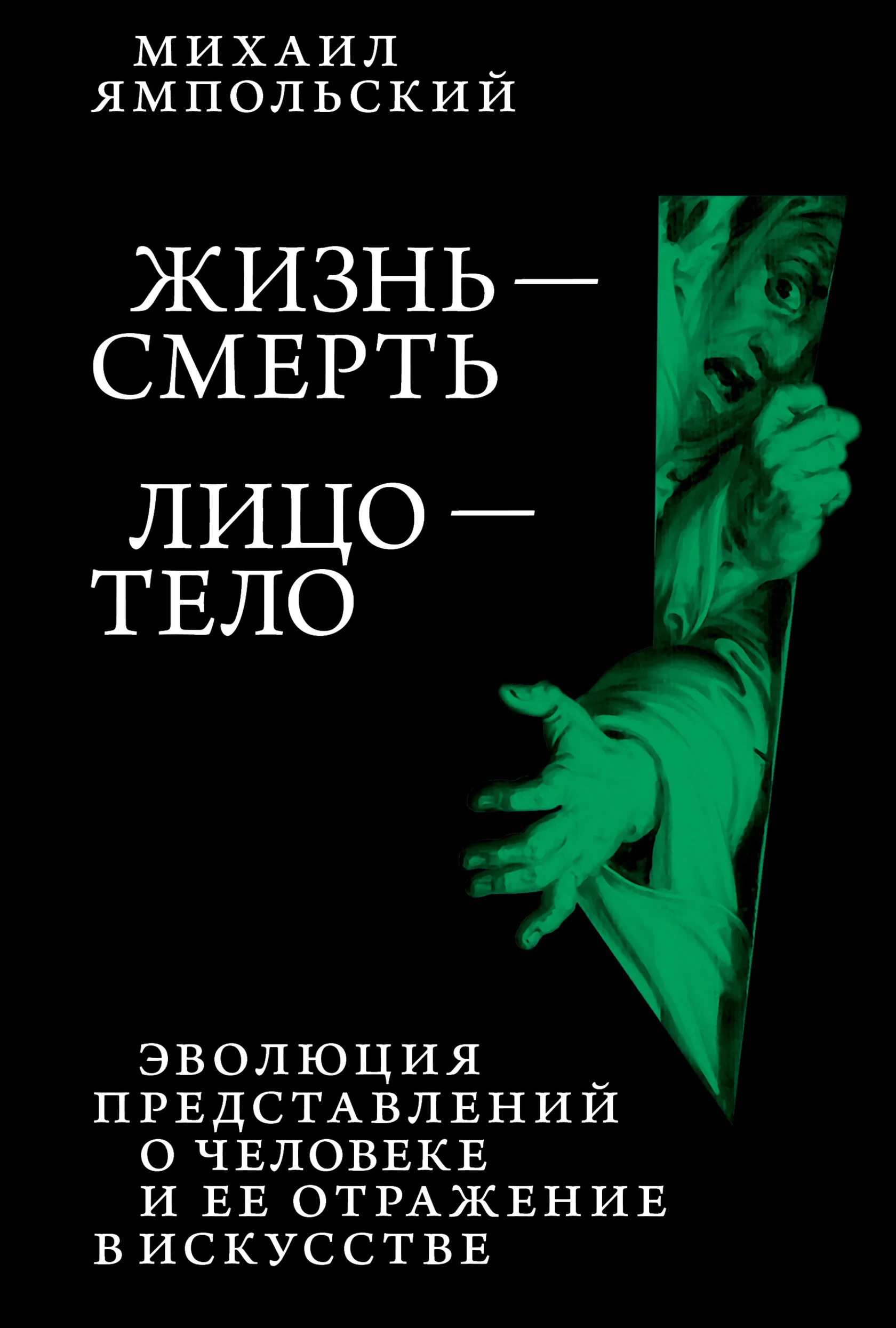
От автора
Эта книга имеет не совсем обычную историю, знание которой поможет читателю лучше понять ее общий замысел. Осенью 2020 года со мной неожиданно связалась Татьяна Горяева, о которой я знал как о директоре РГАЛИ (Российского архива литературы и искусства). Выяснилось, что ко времени нашего первого контакта Горяева перешла работать в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, где ей было предложено возглавить новое подразделение — «Дом текста». В здании, где «Дом» должен был расположиться, кипела работа, и, по предварительным расчетам, оно должно было начать функционировать к концу 2021 года. Предполагалось, что там будет расположена музейная библиотека, а также большое экспозиционное помещение. Направлением деятельности нового подразделения была обширная область взаимодействия текстов и изображений. Совершенно неожиданно Татьяна Горяева предложила мне выступить в качестве куратора выставки, знаменующей открытие этого нового музейного пространства.
Надо сказать, что я никогда не выступал в роли куратора и никогда профессионально не работал в сфере искусствознания. Но предложение это было таким заманчивым, что я, конечно, не отказался от него и с увлечением занялся придумыванием экспозиции, в которой изображение было бы неотрывно от текста. Сама идея такой выставки казалась интересной мне еще и потому, что позволяла смелый выход за пределы музейной догматики, строившейся вокруг искусствоведческой шкалы ценностей и традиционных подходов, которые, на мой взгляд, требовали решительной переоценки и расширения. Мне представлялось заманчивым положить в основу выставки влияние письма на изобразительную сферу. Письмо же понималось мной как способ фрагментации речевого континуума, который давал возможность выделять элементы — буквы, фразы, абзацы, страницы, главы и так далее. И этот способ фрагментации позволял элементам по-разному соединяться, подвергаться беспрерывной рекомбинации. Показательно, что еще Лукреций сравнивал первостихии, elementa, с буквами*:
Часто имеет еще большое значенье, с какими
И в положеньи каком войдут в сочетание те же
Первоначала и как они двигаться будут взаимно.
Те же начала собой образуют ведь небо и землю,
Солнце, потоки, моря, деревья, плоды и животных.
Но и смешения их, и движения в разном различны.
Даже и в наших стихах постоянно, как можешь заметить,
Множество слов состоит из множества букв однородных,
Но и стихи, и слова, как ты непременно признаешь,
Разнятся между собой и по смыслу, и также по звуку.
Видишь, как буквы сильны лишь одним измененьем порядка.
Что же до первоначал, то они еще больше имеют
Средств для того, чтоб из них возникали различные вещи.
Фрагментация мира по модели письма способствовала пониманию связи изображений с мнемотехникой и позволяла интегрировать такие разные области, как архитектура (и поэтика руин), анатомия, физиогномика, коллекционирование, создание энциклопедий и многое другое. Я набросал эскиз такого всеохватного проекта и отправил его в музей, где он был воспринят на удивление доброжелательно. Набросок я воспроизвожу для любопытствующих в приложении к этой книге.
Вместе с тем я отчетливо понимал, что первоначальный черновик слишком аморфен и создает лишь карту всеобщих связей без прочерчивания четкого сюжета, который, по моему мнению, необходим для всякой выставки. В итоге я сузил проект до своего рода истории антропологии, которая бы связала между собой текст и изображение. А в качестве носителя текста мной было выбрано человеческое тело — место многовековых религиозных и социальных инскрипций. Несколько декларативно я начал свое описание воображаемой выставки с «риторического человека», то есть с такого тела, которое буквально воплощало в себе фигуры речи. В итоге сюжет выставки распался на пять взаимосвязанных узлов, каждый из которых представлял вариант вписывания человека в культуру. Речь шла о смене парадигм понимания существа человека и о влиянии подобных сдвигов на искусство. При этом мне хотелось показать, что неотвратимая смена подходов никогда не исчерпывала их до конца, так что отголоски прошлого доходили буквально до наших дней. История связи текста и тела в изображениях была доведена мной в самых общих чертах до ХХ века, который я почти не затронул, так как тут потребовалась бы иная модель понимания.
Я описал воображаемую выставку довольно подробно, чтобы лучше представлять себе направления работы над столь амбициозным проектом. Одной из существенных задач для меня было создание «сюжета», который бы сделал выставку не только поучительной, но и интересной. Мне хотелось уйти от концептуальной сухости и придать всей этой истории оттенок некой авантюры. Отсюда и те черты повествования, которые отличают его от научного труда. Это описание воображаемой выставки и составляет основу той книги, которую держит в руках читатель. Проект был одобрен руководством музея во главе с его тогдашним директором Мариной Лошак. А осенью 2021 года, освободившись на семестр в университете, я приехал в Москву, где мне сняли квартирку на Поварской, откуда я почти ежедневно шел в музей. Здесь, в маленьком кабинете Горяевой, мы работали над воплощением замысла. К нам присоединилась молодой искусствовед Мария Тимина, которая погрузилась в изучение каталогов различных европейских музеев в поисках экспонатов, соответствовавших замыслу выставки. Одновременно шел поиск по запасникам и коллекциям российских музеев. Посещение музейных запасников и коллекций было необычайно интересным. Выставка довольно быстро начала обрастать «мясом», а в наших руках оказались огромные листы с вариантами более или менее доступных экспонатов. Диапазон поиска был очень широк и включал в себя коллекции старинных автоматов, техники, исторических артефактов и так далее. Я даже договорился с уникальными мастерами на «Мосфильме» об изготовлении аналогов старинных физиогномических голов, способных менять выражение лица. К зиме 2021 года инвентарь необходимого нам был составлен, в коллекции разных стран ушли соответствующие письма. А в Москве к нашей группе присоединились прекрасные молодые экспозиционные дизайнеры Кирилл и Надя Ассы, с которыми у нас сразу же установилось полное взаимопонимание. Они предложили интересное дизайнерское решение выставки, которая должна была напоминать кабинеты старых коллекционеров, эксцентрических знатоков прошлого и ученых. По мере продвижения нашей работы становилось понятно, что реставрация здания, предназначенного для «Дома текста», не будет завершена в срок. Лошак приняла решение не откладывать открытие выставки, но перенести ее в главное здание музея и тем самым сделать ее одним из основных событий экспозиционного года. Это требовало изменений в концепции и дизайне.
Увлекательный этап работы завершился, и перед Новым годом я улетел из Москвы, намереваясь вернуться летом для заключительного монтажа выставки. Однако в феврале 2022 года случились всем известные события, которые положили конец всем мечтаниям. А через некоторое время Марина Лошак, которая с энтузиазмом поддерживала проект, покинула музей, вслед за ней ушла Татьяна Горяева, Маша Тимина и Ассы покинули страну. Одновременно рухнул проект «Дома текста», который теперь уже не будет достроен и открыт.
И вот сегодня, спустя несколько лет, я принял решение опубликовать в виде книги не каталог выставки, а описание той канвы, на основании которой мы воображали то, что могло бы быть, но не состоялось. Своего рода странный след того, чего не было. Эта публикация — дань памяти счастливым дням, проведенным мной в музее Пушкина и оказавшим на меня большое влияние. Это были счастливые дни еще и потому, что музей предоставил мне полную свободу и ни разу не вмешался в концепцию, рекомендуя что-то убрать или добавить. На всех этапах работы я встречал удивительную поддержку, понимание и готовность помочь. Посвящаю это описание неродившейся химеры Татьяне Горяевой и Марине Лошак, сделавшим все от них зависящее, чтобы материализовать мои фантазии. Но дело, конечно, не во мне. Именно эти замечательные люди до последнего верили в возможность сохранения и обновления культуры и делали все, чтобы уберечь ее от надвигающейся катастрофы.