«Черт с этим, буду писать про коровьи хвосты»
Теодор Шанин — о левом израильском патриотизме и британском крестьяноведении
Тогдашний Тель-Авив был еще маленьким, но уже очень современным городом. Благодаря борьбе с английской властью возникла какая-то неформальность и близость между людьми. Было нормально заговорить с чужим на улице. Он с ходу реагировал как человек, который тебя знает, хотя он тебя никогда не видел. Была повсеместная взаимопомощь, спокойная вежливость, чувство патриотического взлета. Хотя не у всех. Я как-то зашел к моей кузине, которая работала в аптеке; зашел разговор о сыне ее хозяев, который учился в Бельгии и был старше меня на пару лет. Я спросил: «Когда он возвращается?» Они удивились: «Зачем возвращаться?» Я говорю: «Что значит „зачем”? Есть приказ о мобилизации». Они возмутились: «Как ты смеешь думать, что он бросит учебу просто потому, что война за независимость». Я обалдел. Я приехал из таких далеких краев воевать, а они тут... Но было и другое, настраивающее на оптимистический лад. Добрые буржуйские семьи пробовали прятать своих детей, а дети — не прятались. И шли добровольцами на фронт.
Кстати, на войне около нас воевала одна религиозная бригада. Они ели по-другому, соблюдали кашрут и молились. Но мы, левые, были едины с ними в патриотическом порыве и не чувствовали никакой разницы. С другой стороны, постоянно шли разговоры о том, что в Старом Иерусалиме живут глубоко религиозные люди, которые ненавидят нас за то, что мы воюем за независимость, и сопротивляются ей: лучше быть под англичанами, чем под сионистами. Они также отказывались говорить на иврите, употребляя только идиш. Ходили слухи, что, когда один из наших взводов кинулся через Старый город, подавляя атаку арабов, их забросали камнями, так как атака была в субботу — и в субботу они не должны были воевать. Так это или не так, но помню случай, как религиозники напали на машину, перевозившую молоко в Иерусалим из Цубы (где учредился кибуц), и вылили молоко, потому что в субботу нельзя работать. После чего по вызову союза Пальмаха мы кинулись на них. И была отчаянная драка, полиция нас разделяла...
В то время я работал в «Мальбене», еврейской филантропической организации, которая приняла на себя ответственность за социальную помощь еврейским иммигрантам-инвалидам. Это разделило социальную работу в Израиле меж «Мальбеном» и властями. Я работал в туберкулезной больнице, а позже принял ответственность за реабилитацию инвалидов в Негев — южном регионе страны.
Я параллельно возобновил учебу в университете и в ней сильно почувствовал нехватку знания английского языка. На каком-то этапе я попросил у своего руководителя об отпуске на четыре месяца, чтобы посмотреть на социальную работу Англии (Британия считалась лучшей по вопросам реабилитации инвалидов, что меня особо интересовало) и чтобы подучить английский язык. К этому времени я накопил три неиспользованных отпуска. Неожиданно я получил письменный ответ, что мне разрешают девять месяцев оплачиваемого отпуска. Мой английский подтянулся очень серьезно, я как следует изучил методы социальной работы, научился уважать Англию — и вернулся работать в Израиль. Думал, что навсегда.
Но на каком-то этапе далее я сцепился с властями. Предыстория была такая: эксперт ООН, британец, отличный специалист по реабилитации, предложил израильскому правительству построить реабилитационный суперцентр, а меня назначить руководителем. Я поставил только одно условие: взять с собой всех моих сотрудников из центра реабилитации, созданного «Мальбеном». Мне ответили согласием, слегка удивившись, что я прошу этого, а не повышения зарплаты. Но дальше начались сложности. Я попросил показать мне план строительства нового центра, осмотрел внимательно и взлетел в воздух. Они планировали строить центр реабилитации — внутри больницы для хронических больных! Главное в реабилитации — привести человека к пониманию, что он не бедный и несчастный. Он тот, который может. А тут его помещают среди людей, которые прикованы навсегда к постели.
Мне сказали, чтобы не лез не в свое дело. Тогда я потребовал встречи с министром труда. Мне ответили, что он очень занят. Что же; я отправился в Иерусалим, заявил секретарю министерства: «Я хочу видеть заместителя министра, ответственного за реабилитацию». Услышал то же самое: «Он занят». Тогда сказал: «Зайди к нему и скажи, что, когда он был заместителем командира бригады Армии обороны Израиля „Ифтах”, я служил в шестом батальоне и требую аудиенции». Он зашел в кабинет, доложил. Выскочил весь красный. И сказал мне, что заместитель министра примет меня через двадцать минут. «Кофе? Чай?»
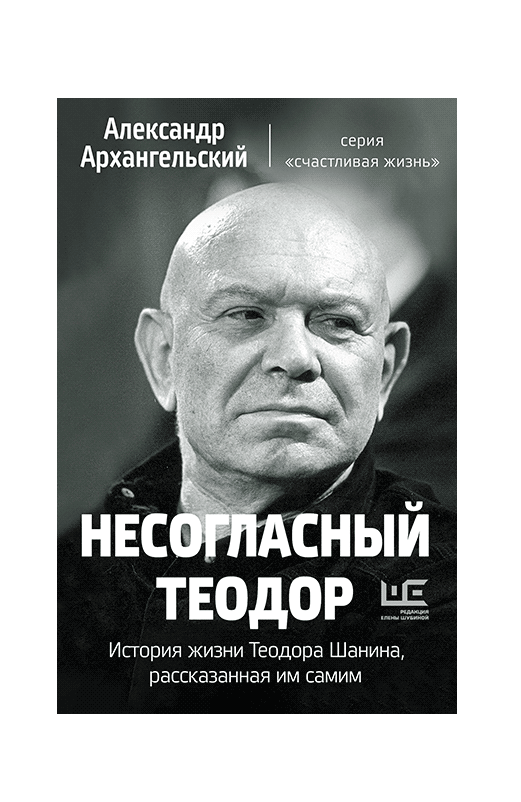 В итоге мне пообещали, что соберут заново тот комитет, чтобы рассмотреть дело. Я нашел английского эксперта ООН, он меня похвалил: «Вот какое нахальство, полез к начальству и добился своего». Но через неделю он мне перезвонил: «У меня плохие новости, зайди». Я узнал, что комитет не соберется. Теперь думаю, что я был еще очень наивным, не понял, что за то, чтобы стройка состоялась именно в том месте, которое чиновники выбрали, была, возможно, дана взятка. Тогда я заявил, что ухожу — как из этого проекта, так и вообще из системы министерства труда. На мне уже была черная метка «левака». А если такой неблагонадежный человек уходит из-за дурацких принципов, этого ему никогда не забывают.
В итоге мне пообещали, что соберут заново тот комитет, чтобы рассмотреть дело. Я нашел английского эксперта ООН, он меня похвалил: «Вот какое нахальство, полез к начальству и добился своего». Но через неделю он мне перезвонил: «У меня плохие новости, зайди». Я узнал, что комитет не соберется. Теперь думаю, что я был еще очень наивным, не понял, что за то, чтобы стройка состоялась именно в том месте, которое чиновники выбрали, была, возможно, дана взятка. Тогда я заявил, что ухожу — как из этого проекта, так и вообще из системы министерства труда. На мне уже была черная метка «левака». А если такой неблагонадежный человек уходит из-за дурацких принципов, этого ему никогда не забывают.
И тут я вспомнил о письме из Бирмингемского университета, полученном за полгода до того. В нем предлагали стипендию, от которой я тогда отказался, так как счел, что не могу отвлекаться от работы над созданием центра реабилитации. Я начал искать работу, но написал в Бирмингемский университет: «Коллеги, понимаю, что стипендия давно ушла, но, если что-нибудь такое появится опять, я буду заинтересован». На это пришла ответная телеграмма (тогда еще слали телеграммы), что кто-то отказался и осталась одна вакансия в центре изучения Восточной Европы. И если я теперь же вышлю мои данные, то меня рассмотрят. Получив эту стипендию, я выехал в Англию.
Там меня спросили, какую тему я хочу взять. Я ответил: «Интеллигенция в русской революции». Уточнили: «А как вы будете это изучать?» Я сказал — и им сильно не понравилось. Методологически это были твердые позитивисты: «Факты, факты, факты». Учеными они были весьма солидными, но не очень хотели заниматься миром идей, «сферой духа». И я пошутил: «А вы чего хотите? Чтобы я изучал корреляцию между количеством коровьих хвостов и цветом глаз девушек на Украине?» Сам я смеялся над шуткой. Они не смеялись — у них загорелись глаза. Сельское хозяйство! В последние двадцать лет во всей Англии не было ни одной докторской работы по русскому сельскому хозяйству.
Мы разошлись, чтобы все обдумать. Наутро я вернулся и сказал:
— У меня очень неудобное чувство. Моя страна, то есть Израиль, не дала мне стипендию. А вы дали. А теперь я с вами лаюсь вместо того, чтобы поблагодарить. Так что, во-первых, спасибо. А во-вторых, черт с этим, буду писать про коровьи хвосты.
И сел начитывать материал. И чем глубже я залезал в тему «Русское крестьянство и революция», тем хуже становилось это дело. Я понимал все меньше в вопросе, который должен был стать предметом моего исследования, а именно: почему в стране, где большинство, восемьдесят процентов, были крестьянами, победила именно пролетарская революция. Но тут мне опять повезло: к одному из моих супервайзеров, Бобу Смиту, обратились с просьбой перевести книгу Чаянова на тему крестьянского хозяйства. Боб меня все время спрашивал: «Как это слово лучше перевести? А это?» Так что Боб работал, а я все время смотрел через его плечо — и постепенно стал видеть свою проблему иначе. А второе везение заключалось в том, что мне поручили написать рецензию на книгу польского марксиста Галенского о базовых теориях крестьянства. Оказалось, что в центре по изучению Восточной Европы нет специалистов со знанием польского, и этот отзыв попал ко мне. Книга Галенского основательно добавила к моему пониманию особенностей крестьянской социальной культуры на политику и вооруженную борьбу крестьян.
С того времени я начал более серьезно читать литературу о русском крестьянстве двадцатого века, и мозги мои начали работать по-другому. К концу моей двухгодичной стипендии Боб Дэвис, другой мой руководитель, предложил просить добавочную стипендию на третий год. Я ответил, что испытываю неудобство, беря британские деньги: я же с ними воевал в свое время. Он объяснял, что это бред; главное, что меня считают хорошим студентом, а все остальное — трын-трава. Но я уперся. Боб решил: «Черт с тобой, ищи работу. Хотя, — добавил он, — ты никак академическую работу не получишь, у тебя нет необходимого минимального научного статуса, то есть хотя бы магистерской степени».
Я начал проверять газетные объявления университетов, следя за открывающимися вакансиями. И вдруг напал на объявление Шеффилдского университета, искавшего человека, готового создать курс, которого не было в Англии: социология третьего мира. До сих пор удивляюсь, что этот довольно провинциальный тогда университет затеял вещи, до которых в Оксфорде и Кембридже не додумались. На собеседовании я объяснил, что с точки зрения социологии самое важное то, что в третьемирских странах большинство населения — крестьянское. Ответ понравился, меня назначили.
Вообще говоря, левые относились тогда к крестьянству с предубеждением. Вплоть до начала вьетнамской войны, которая многое изменила в этих дискуссиях, я спорил с ортодоксальными марксистами по крестьянскому вопросу. Такие, как я, говорили: «Мы социалисты».
Для меня центром, если хотите, моего идейного разворота стал Чаянов. Он не был марксистом, но был левым земским статистиком, возглавлял важнейший институт по изучению аграрного вопроса. Он отдал в печать свою главную книгу — «Основные идеи и формы сельскохозяйственной кооперации», которая была практически альтернативой сталинского плана коллективизации. Книга основывалась на прекрасном познании крестьянства, но стала ему смертным приговором. Его отстранили от руководства институтом, судили как члена несуществующей крестьянской организации, сослали в Центральную Азию, жену заставили отречься от него (она это сделала с его согласия, но все равно попала в лагерь). А во время следующей волны репрессий его расстреляли. Можно не соглашаться с некоторыми из его постулатов, но в его поколении он, несомненно, был крупнейшим специалистом по крестьяноведению. Это и признала советская власть, назначив его директором Института сельскохозяйственной экономики и политики. Но это его не спасло. Чтоб получить человека, как Чаянов, нужно было чисто русское сочетание мощного крестьянства и блестящего академического мышления.
Американская война против Вьетнама меня взбесила. Сама идея, что против крестьян, вооруженных только винтовками XIX века, можно использовать авиацию и напалм, была для меня недопустимой. Скауты не только не бьют слабых, но и не разрешают бить слабых. Я всей душой вошел в движение защиты Вьетнама. Довольно быстро стал председателем организации в моем Шеффилдском графстве. Тем более что Хо Ши Мин был для меня самым приемлемым в то время из вожаков третьего мира. Когда в России не получилась коллективизация, начали стрелять кулаков. А когда коллективизация не получилась у вьетнамцев, Хо Ши Мин объехал большую часть Северного Вьетнама, лично извиняясь перед крестьянами за то, что произошло. Такой марксизм мне очень подходил.
Настал день, когда американцы начали бомбить Камбоджу. В то воскресенье я приехал в Лондон, где по субботам проводили демонстрации под привычным слоганом «Мир во Вьетнаме»; я увидел более двадцати тысяч человек под новым слоганом: «Победа Вьетнаму». Я шагал в их рядах. Мой тысяча девятьсот шестьдесят восьмой сильно связан с этим, конечно. Я также сблизился с английскими «новыми левыми». И сообразил, что этика определяет мою позицию не меньше, чем социологический или политический анализ.
Это был хороший период. На мои лекции ходило куда больше людей, чем было записано, темы были интересные. Но главное — общественная жизнь. В 1968-м я на два года перебрался в Бирмингем, потому что у них ушли все социологи, и они попросили Шеффилд меня одолжить. В то время там началась студенческая забастовка, которую стоит описать. Новый ректор, медик из Шотландии (медики у нас были часто консерваторами), отказал студентам, попросившим студенческого представительства на заседаниях сената. В течение следующих двадцати минут он получил сидячую забастовку, то есть студенты оставались в кампусе. И вызвал полицию, чтобы убрать бастующих из кампуса. На что полиция ответила, что это не их дело. Английская полиция не занимается тем, что выбрасывает студентов из университета. (Что было полностью противоположно ситуации в Америке, где полиция ворвалась в Колумбийский университет и избила как студентов, так и преподавателей, которые встали стеной, чтобы защитить своих студентов.)
Студенты засели в университете. А мы, преподаватели, примерно сорок человек с разных факультетов, создали комитет защиты студентов. Чтобы если полиция передумает, то встать меж студентами и полицией. Для верности дела я остался ночевать в своей университетской комнате. В полночь я пошел смотреть, что происходит в главном здании университета. Пикеты удерживали двери, но меня пустили. Там лежало на полу человек четыреста; громкоговоритель, предназначенный для трансляции церемоний, играл «Интернационал». И четыре девчонки, две пары, танцевали твист под «Интернационал». Для меня 1968 год — это, в главном, те девчонки, танцующие твист под «Интернационал». Столько в этом было легкости, хорошего настроения и дружелюбных отношений... На следующий день, после жестких переговоров, ректор отменил запрет на участие студентов в заседаниях сената. И поблагодарил всех за то, что они вели себя так цивилизованно. Потому что, покидая помещение, студенты вымыли окна и полы. И только после этого передали ключ представителю университетских властей.
Но в целом по стране ситуация оставалась напряженной. Воскресные демонстрации проходили каждую неделю; в них участвовал и я. Однажды член французского парламента, правый, заявил: «Нам не будут указывать, как жить, немецкие евреи», — намекая на происхождение лидера студенчества Сорбонны Кон-Бендита. Назавтра студенты Сорбонны маршировали по улицам Парижа, скандируя: «Мы все немецкие евреи, мы все немецкие евреи». И мы в Лондоне устроили марш солидарности. Наши студенты начали скандировать: «Мы все немецкие евреи!» Вдруг вспомнили, что я иду в первых рядах, и уточнили лозунг: «Мы все немецкие евреи, кроме Теодора!».
Шестьдесят восьмой был приятен тем, что много шутили. Это не была борьба с кровью на асфальте. Это была веселая борьба. Кроме, может быть, Италии, где было создано практически партизанское движение. Что было результатом 1968-го? Изменение общей атмосферы произошло, но законодательства практически не изменились. В университетах большинство требований студентов были приняты. Общество в целом стало менее формальным, что было особенно заметно в Англии. Я галстука не надевал и раньше, но этим выделялся. Помню, я услышал, как моя секретарша объясняет кому-то, как меня узнать: «Он будет единственным человеком без галстука». Сегодня вид профессора без галстука лишь подтверждает, что он и впрямь профессор.