Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Брайан Стил. Томас Джефферсон и американское национальное самосознание. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2024. Перевод с английского Михаила Тарасова. Содержание
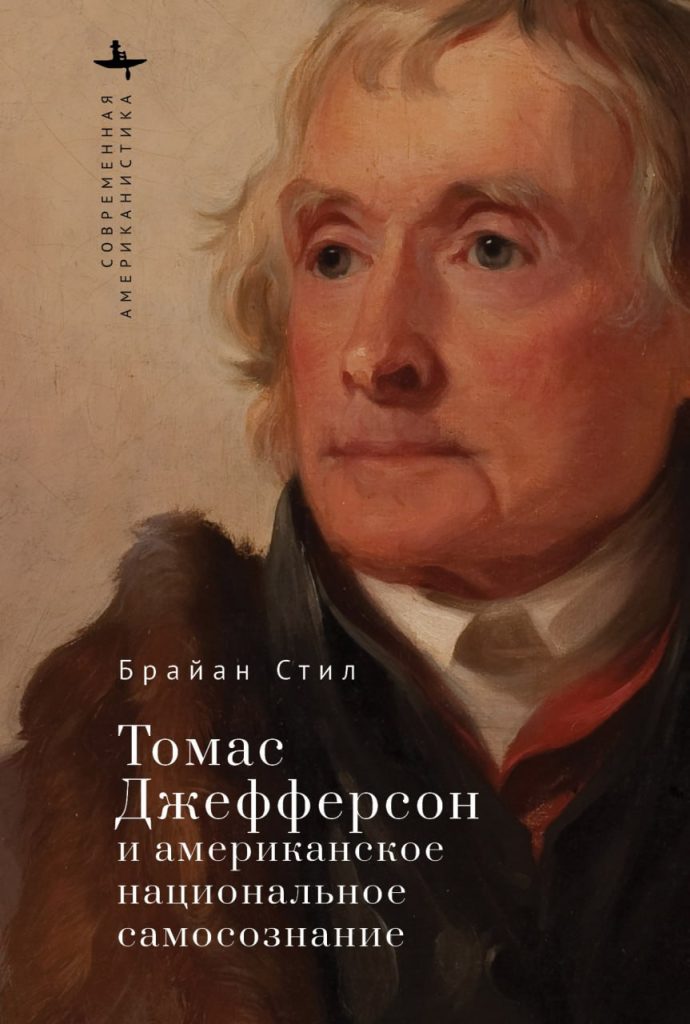 Подобно Карлу Марксу, которого по праву можно считать отцом современной социологии, шотландские мыслители, какими Джефферсон увлекался в юности (не говоря уже об их учителе Монтескье), были весьма чувствительны к тому, как исторические и социальные условия могут объяснить различные вариации проявления человеческой природы. Как выразился Уильям Робертсон, знаменитый шотландский историк, «человеческий разум всякий раз, оказываясь в одной и той же ситуации, в самых отдаленных веках и странах будет принимать одну и ту же форму и диктовать одни и те же обычаи». Джефферсон не представлял, чтобы американцы каким-то образом оказались свободны от законов человеческой природы, и вместе со многими американскими мыслителями, включая Адамса, полагал, что только длительная адаптация, практика и опыт свободы могут сделать народ способным наслаждаться ею и поддерживать ее. Что его отличало, так это вера в то, что американский социальный и исторический опыт сделал демократическую американскую политику возможной и необходимой. Именно это своеобразное сочетание влияний на американский характер (окружающая среда, социальные практики, институты, история), по его мнению, привело к созданию уникального в истории человечества национального характера. Возможно, на каком-то уровне «особое Божественное провидение для Америки» все-таки существовало. Не природа американцев отличала их от других народов, сложившихся в той же среде. Их уникальная история и окружающая среда породили незаурядный характер, способный к редким политическим практикам. Все другие народы должны разделить этот благословенный дар, но прежде им нужно будет приобщиться к американскому опыту.
Подобно Карлу Марксу, которого по праву можно считать отцом современной социологии, шотландские мыслители, какими Джефферсон увлекался в юности (не говоря уже об их учителе Монтескье), были весьма чувствительны к тому, как исторические и социальные условия могут объяснить различные вариации проявления человеческой природы. Как выразился Уильям Робертсон, знаменитый шотландский историк, «человеческий разум всякий раз, оказываясь в одной и той же ситуации, в самых отдаленных веках и странах будет принимать одну и ту же форму и диктовать одни и те же обычаи». Джефферсон не представлял, чтобы американцы каким-то образом оказались свободны от законов человеческой природы, и вместе со многими американскими мыслителями, включая Адамса, полагал, что только длительная адаптация, практика и опыт свободы могут сделать народ способным наслаждаться ею и поддерживать ее. Что его отличало, так это вера в то, что американский социальный и исторический опыт сделал демократическую американскую политику возможной и необходимой. Именно это своеобразное сочетание влияний на американский характер (окружающая среда, социальные практики, институты, история), по его мнению, привело к созданию уникального в истории человечества национального характера. Возможно, на каком-то уровне «особое Божественное провидение для Америки» все-таки существовало. Не природа американцев отличала их от других народов, сложившихся в той же среде. Их уникальная история и окружающая среда породили незаурядный характер, способный к редким политическим практикам. Все другие народы должны разделить этот благословенный дар, но прежде им нужно будет приобщиться к американскому опыту.
Джефферсон часто использовал универсальные термины, когда размышлял о том, что на самом деле считал американскими особенностями: «Человек есть разумное животное, — написал он Джонсону в 1823 году, — наделенное природой правами и врожденным чувством справедливости». Отдельное человеческое существо «может быть удержано от зла и защищено в своих правах с помощью умеренной власти, возложенной на лиц, которых он выбрал и которым предписал исполнить обязанности по его собственной воле». Джефферсон предложил политику, которую считал возможной в то время только в Америке. Федералисты ошибались именно потому, что думали, будто правительство, основанное на силе, применимо и в Америке. Но именно американская исключительность вдохнула жизнь в предписания республиканской партии для Соединенных Штатов, и это, в свою очередь, на какое-то время ограничило использование такой политики в других местах. Она была уместна только в странах, специфичных с исторической и социальной точек зрения. Подчеркивая контраст, к которому он снова возвращался, Джефферсон утверждал, что американцы «с колыбели чтили» «святость закона», установленного правлением большинства как «фундаментального закона природы, с помощью которого общество только и может осуществлять самоуправление». Народ Франции, с другой стороны, «еще не привык признавать... lex majoris partis» и «никогда не имел привычки к самоуправлению». В результате французы, очевидно, были готовы согласиться с доминированием меньшинства в Директории и Совете пятисот. У американцев, предположил Джефферсон, самоуправление было «почти врожденным». И именно «это единственное обстоятельство» смогло, «вероятно, решить судьбу двух наций». Национальная судьба зависела от национальной истории и соответствующих привычек данного народа. Присутствие прошлого во Франции вело к угнетению, а в Америке — к свободе. Джефферсон мог с такой надеждой относиться к американскому будущему именно потому, что мыслил в терминах национальной (а не универсальной) истории.
Все, сказанное Джефферсоном о том, что возможно в Америке (и правильно для нее), следует понимать в этом контексте. Если бы «человеческая натура [была] одинакова по обе стороны Атлантического океана», как однажды выразился Джефферсон, она оставалась бы «одинаковой при влиянии одних и те же причин», которые бы поспособствовали подготовке разных народов к лучшим для них режимам в разное время. Америка для Джефферсона стала местом уникальных возможностей. Фундаментальное понимание этой ее специфики способствовало как обнадеживающей внутренней политике Джефферсона, так и его реальной политике (realpolitik. — Прим. ред.) в отношениях с другими странами.
Притом что взгляды Джефферсона обычно связывали с поддержкой универсальных прав человека (и в этом нет ничего неправильного — только требуется уточнение), он был гораздо более восприимчив к национальным особенностям, чем федералисты, которые (возможно, парадоксально) стали настоящими поборниками «единства универсального человеческого опыта». Вот почему федералисты, утверждал Джефферсон, используя особенно красноречивую фразу, работали «над восстановлением... на практике власти, от которой отказалась нация», позиционируя себя как «власть, независимую от воли [народа]». Они трудились над тем, чтобы «поддерживать свой основанный на привилегиях порядок в блеске и праздности, очаровывать взоры людей и возбуждать в них смиренное обожание некоего ордена высших существ и подчинение ему». Федералисты предприняли свои шаги, желая восстановить в Америке «доктрину Европы», именно потому, что экстраполировали общечеловеческий опыт на текущий момент истории, не принимая во внимание уникальный опыт Соединенных Штатов. И американская нация, утверждал Джефферсон, отвергла их политику как раз по той причине, что этот самый уникальный опыт, по его мнению, подготовил американцев к новым и бóльшим перспективам, чем те, которые политические теоретики прошлого могли обоснованно ожидать от других народов.
Джефферсон начал с универсальных и естественных прав человека, но поскольку, как он выразился, «привычки управляемых в значительной степени определяют практически осуществимое», то «одни и те же первоначальные принципы, измененные на практике в соответствии с различными привычками разных наций, дают очень разные правительства». Это в некоторой степени примиряет универсализм Джефферсона (и его естественное обоснование прав и политических свобод) с его верой в американскую исключительность (коренящуюся в истории) и делает очевидным противоречие между его просвещенческим видением бесконечного прогресса и пониманием историчности институтов и человеческого опыта. Нация и история были в его мышлении концепциями, которые усложняют и определяют то, что слишком часто воспринимается как его безграничный оптимизм в отношении неизбежности прогресса. Джефферсон никогда не был настолько самонадеян, чтобы предполагать, будто «человеческая природа когда-либо достигнет такого совершенства, что в мире больше не будет ни боли, ни порока». Даже американские институты, по его мнению, потребуют изменений, чтобы идти в ногу с «прогрессом человеческого разума». Но если такая человеческая природа, как считал Джефферсон, «поддавалась значительному улучшению, прежде всего в вопросах управления и религии», то он полагал, что именно в Америке это улучшение продвинулось дальше всего в истории человечества, что сделало возможными другие виды уникальных предприятий, включая демократическую политику и продвижение империи свободы, а не завоеваний. Таким образом, оглядываясь назад, Джефферсон с трудом мог представить себе, что будущее предложит какое-либо значительное улучшение фундаментального проекта, к которому американцы были настолько близки, — модели, которая, по его мнению, окажет преобразующее воздействие на мировую историю.
Хотя Америка Джефферсона была тем эталоном, сравнивая себя с которым другие нации могли оценивать свое историческое развитие, на самом деле она не была исключением из законов природы или нацией, которой подвластны другие народы. Его «вера в американскую исключительность» (если это действительно наиболее точное выражение, с помощью которого можно охарактеризовать его позицию) указывает на своего рода превосходство, но только относительно прогресса других народов к данному моменту времени, а не фиксированное и необыкновенное на все времена. Самой Америке это передовое положение в отсутствие особых исторических и социальных условий, которые сделали его в итоге возможным, гарантировано не было. Американский опыт был отчасти случайным: американский народ «не мог бы быть так справедливо отдан в руки собственного здравого смысла, если бы не был отделен от своего родительского племени и защищен от чужаков (как из родительского племени, так и из других народов Старого Света) вмешательством столь широкого океана». Но американцам тоже требовалось кое-что сделать с таким подарком, и Джефферсон видел необходимость сохранения этих обстоятельств посредством государственного управления, которое оберегало бы союз и расширяло территорию для заселения, а также проводило социальную политику, способствующую «распространению знаний среди людей», что было единственной «надежной основой... для сохранения свободы и счастья».
Как Джефферсон написал Пристли, американское «самосохранение» продлится только «до тех пор, пока не произойдет изменение обстоятельств». Хотя он не рассматривал такое изменение «в перспективе, на какой-либо определенный период», оно было, конечно, теоретически возможно. «Лучшие места Старого Света, — отмечал он в 1780-х годах, — теперь в значительной степени мертвы для торговли, искусства, науки и общества». Другими словами, те цивилизации, что были наиболее развиты, стали пионерами торговли, искусства и науки, просто исчезли как важные факторы, определяющие мировые события. «Греция, Сирия, Египет и северное побережье Африки составляли почти весь мир для римлян, а для нас они едва известны и доступны». Джефферсона ближе к концу жизни мучило беспокойство о том, что некоторые американцы, особенно те, кто жил на северо-востоке, казалось, утрачивали такие черты характера, которые сделали возможной демократическую политику в Соединенных Штатах, и это беспокойство ослабляло его космический оптимизм на протяжении всей карьеры.
Таким образом, Америка, с одной стороны, являла собой законный и оптимистичный пример для остального мира, с другой — этот пример не был легко или случайно достижимым или постоянно устойчивым без достаточного внимания к национальному характеру и институтам. Джефферсон обладал как удивительно обнадеживающим ощущением человеческих возможностей, так и трезвой оценкой исторических условий, необходимых для обеспечения человеческой свободы и счастья, на которые имели право все, но которыми на самом деле наслаждались относительно немногие. Джефферсон был оптимистом в том, что будущее может отличаться от прошлого, а не в том, что так обязательно произойдет. Источником его надежды была не неизбежность бесконечного прогресса, а скорее исторический момент, в котором Америка случайно оказалась, и его ощущение, что американцы, сформированные опытом, могут соответствовать тому, что он обещает.
Кажется, здесь стоит еще раз повторить в порядке пояснения, что в представлениях Джефферсона нация никогда не была самоцелью. Во-первых, как мы видели, культивирование национальных чувств в Америке было законным, с его точки зрения, именно потому, что именно там существовала преданность в отношении нации, неразрывно связанная с универсальными ценностями, заботами о морали, которые выходили за рамки национальных границ. Н. и П. Онуф также предположили, что Джефферсон на самом деле предвидел, что мир республиканских наций однажды сольется во «всемирное общество» «вечного мира». В этом смысле, утверждают они, «[конечной] судьбой нации было просто исчезновение». Но геополитический реализм Джефферсона убедил его (к сожалению), что такого не следует ожидать в ближайшем будущем. На данный момент американский союз мирных штатов «предвосхищал» возможный «союз всех обществ», но он не мог остановить ход истории и «реки крови», которые должны пролиться, прежде чем эта цель будет достигнута. Так же как «чудовищные преступления времени» отвлекли Джефферсона от «спокойных занятий наукой» и привели к общественным делам, прочтение истории и текущих событий привело его (по необходимости) к националистической позиции в мире, в котором только Америка была представителем универсальных идеалов. Таким образом, на данный момент Америка могла жить в мире, готовясь к войне, чтобы обеспечить свою национальную судьбу, тесно связанную с судьбой всего мира. Джефферсон представлял себе космополитическое (почти утопическое) будущее, но жил — и занимался политической деятельностью — в исторических реалиях. Это требовало объективной оценки уникальной роли Америки в мировой истории, но это также подпитывало чувство Джефферсона, что самосохранение Америки обеспечит будущее мира или, если идти от противного, что ее «самоубийство» было бы «изменой надеждам всего мира».
Пока что, неоднократно утверждал Джефферсон, только в Америке люди были фактически свободны, чтобы реализовать свой естественный потенциал самоуправления. Джефферсон снова заявлял, что лишь в Америке граждане могут свободно соглашаться с истиной разумом, не затуманенным наследием поколений деспотизма, кознями духовенства, бедностью, зависимостью, неграмотностью, софистикой и излишней благовоспитанностью. Американскому «пахарю» — тому фермеру, который, по его словам, читал Гомера, — нужны были только факты, чтобы принять мудрое решение, согласиться с истиной. Джефферсон по-прежнему был убежден, что в будущем Америке «суждено стать препятствием на пути возвращения невежества и варварства». «Старой Европе, — писал он Адамсу, — придется опереться на наши плечи и ковылять рядом с нами под монашескими веригами священников и королей так, как только она сможет. Каким колоссом мы станем, когда и южный континент достигнет нашего уровня! Какую позицию мы займем в качестве опоры для разума и свободы всего мира!».
С тех пор американцы воспринимали все сказанное Джефферсоном как прирожденное право, применимое во все времена вне зависимости от обстоятельств, которые, как верил сам Джефферсон, сделали американские возможности уникальными в XVIII и начале XIX века. Но, кажется, стоит отметить, что он говорил и писал о будущем Америки не тогда, когда она стала величайшей индустриальной и самой могущественной военной державой в мире, а в контексте постреволюционного общества, робко цепляющегося за свое существование в мире государств, враждебных его успеху и в значительной степени безразличных к его уверенности в своем предназначении. Только благодаря уникальному американскому опыту, который он научился ценить, Джефферсон мог быть так уверен в американском будущем, хотя и не без ноющего чувства, что дела могут пойти очень плохо, если условия изменятся.
В 1816 году Джефферсон скопировал фрагмент из стихотворения сэра Уильяма Джонса в письмо, которое он написал Тейлору, защищая демократические изменения в конституции Виргинии. Это своего рода джефферсоновский ответ на скептицизм Адамса, проливающий свет на предпосылки современного ему конституционализма — политику недоверия:
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?
Не высоко поднятые бастионы, не валы, возведенные тяжким трудом,
Не толстые стены, не ворота со рвом,
Не гордые города, увенчанные шпилями и башенками;
Нет: люди, высокодуховные люди,
Люди, знающие свои обязанности,
Но знающие и свои права и, зная, смеющие их защищать.
Они составляют государство.
В том же письме он написал Тейлору, что с Америкой все будет по-прежнему хорошо («пока сохраняется наш нынешний характер»). Именно его, силу нации, Джефферсон считал исключительным в американцах, поэтому его знаменитая борьба за демократию, по крайней мере в то время, имела тенденцию заканчиваться на границах Соединенных Штатов. Другие народы могли иметь демократию американского образца только тогда, когда они стали бы больше похожи на американцев. Американцы могли оставаться надеждой мира на будущее только до тех пор, пока они сохраняли свой замечательный характер и условия, которые его культивировали.
