Богатырки, амазонки, валькирии
Фрагмент книги «Дева-воительница в литературе русского модернизма»
Вероника Зусева-Озкан. Дева-воительница в литературе русского модернизма. М.: Индрик, 2021. Содержание
1. Кто такая дева-воительница?
Определимся вначале с центральным понятием. Хотя, казалось бы, словосочетание «дева-воительница» интуитивно достаточно понятно, следует договориться о терминах. Ведь, как ни парадоксально, хотя само ее именование подразумевает, что основная функция воительницы — воевать, это сюжетное действие может быть «стянуто» или вовсе опущено.
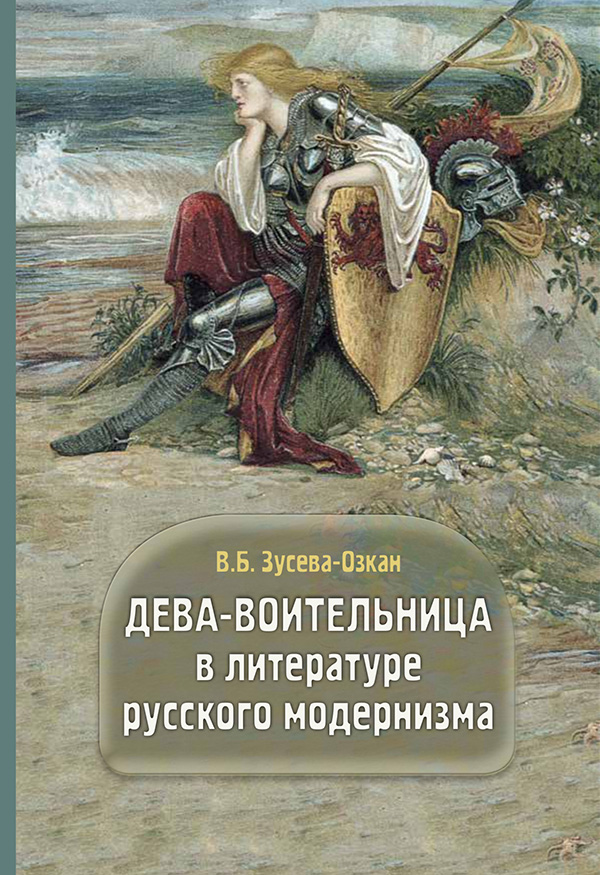
Классический пример — Жанна д’Арк, едва ли не самая знаменитая воительница, чье имя у всех на слуху и чьи изображения все видели, но которая, как известно из материалов ее процесса, самолично не сражалась и знамя свое ценила много выше меча, вдохновляя на бой своих соратников-мужчин:
«...ее функция знаменосца, вдохновлявшего соратников на <...> победы, не предусматривала, с точки зрения авторов XV в., непосредственного участия в битвах. Этот образ как нельзя лучше отвечал задачам, стоявшим перед участниками процесса по реабилитации Жанны 1455—1456 гг., стремившимися представить ее истинным пророком, посланницей Господа, <...> всегда выступавшей за правое дело, но никогда не бравшей в руки меч и никого не убившей» (Тогоева 2016: 301–302).
В литературе русского модернизма тоже есть такие «не сражающиеся» и «не убивающие» (Watanabe-O’Kelly 2010: 15) воительницы — скажем, Лера из драматической поэмы Н. Гумилева «Гондла» (1916), которая, однако, по всем другим признакам соответствует образу воительницы и сама сравнивает себя с девой-валькирией. Другой пример — героиня триптиха С. Парнок «Пенфесилея» (1916–1922), которая, судя по всему, добровольно слагает оружие и позволяет убить себя.
Но что же тогда остается и где неэлиминируемое ядро образа? С моей точки зрения, его составляет сдвинутый — по сравнению с традиционным — баланс сил: «воительница» — это героиня, которая оказывается сильнее и искуснее мужчин или как минимум равна им в ситуациях, относимых обычно к типично мужским прерогативам, где вооруженное столкновение, война, поединок составляют лишь максимально выраженную из таких ситуаций, наиболее «интенсивную» часть спектра. То есть разговор должен идти прежде всего в терминах «силы» и «власти».
Принципиально, что такая героиня действует на «мужском» поле и «мужскими», т. е. «прямыми», методами: как пишут Е. Здравомыслова и А. Темкина, «власть как способность действовать — это не только принуждение и доминирование сильного, но и влияние исподволь, это манипулирование и скрытые способы достижения целей» (Здравомыслова, Темкина 2007: 75), которыми и характеризуется «власть слабых», в том числе и «женская власть» в патриархатном обществе.
Воительницы — существа, исключившие себя из патриархатных отношений (как некое особое сообщество — например, амазонки, — или в результате личной исключительности, или в силу принадлежности к сонму полубожеств, возвышающемуся над человеческим сообществом) и осуществляющие свою власть не в виде «механизма манипулирования, т. е. непрямого и часто индивидуализированного влияния на власть имущих» (Здравомыслова, Темкина 2007: 77), не в виде «женской власти-манипуляции („власти слабого пола”)», а с позиции прямого, непосредственного и даже насильственного утверждения своей воли. Хотя и здесь следует сделать оговорку: скажем, Юдифь — тоже одна из «воинствующих» героинь, о чем свидетельствует и тот факт, что она служила одной из библейских параллелей для авторов XVI–XVIII вв., писавших о Жанне д’Арк (Тогоева 2016: 73, 76, 307–308), — действует скорее в рамках тактики манипуляции, убивая Олоферна не в открытом поединке, а в момент его опьянения и сна. Есть этот элемент и в истории Брунгильды, убивающей Зигфрида не собственными руками, но — как, например, в «Песни о Нибелунгах» — в результате манипуляций своим мужем Гунтером. В последнем случае, однако, следует иметь в виду и древнее мифологическое представление о том, что воительница, теряющая девственность, лишается вместе с ней своей невероятной силы, так что уже и не может действовать в рамках своей прежней идентичности, не обладая ее специфическими возможностями (Self 2014: 156–158, 161). То есть связь образа воительницы и «прямой», непосредственной силы и насилия совершенно несомненны.
Здесь следует сказать и о том, что иногда воительницы бывают наделены специфической «мудростью», понятой как тайное знание, способность к колдовству, ворожбе, оборотничеству и пр. Таковы, скажем, царь-девица русских сказок, особенно типа 551 (Сравнительный указатель сюжетов 1979: 155), или «лебединые девы» — валькирии в сагах. Исследователи иногда рассматривают героинь-колдуний и героинь-воительниц вместе, в рамках сюжета «противоборства», или испытания, вообще. Так, Е. Л. Мадлевская в своей диссертации «Героиня-воительница в эпических жанрах русского фольклора» говорит о «преобладании в каждом конкретном случае тех или иных черт, заложенных в комплексе „женщина-противница”» (Мадлевская 2000: 178). Однако поскольку колдовство воспринимается как преимущественно «женское» занятие и является своего рода «компенсацией» отсутствия иной власти (физической, экономической, юридической и пр.), оно, с моей точки зрения, не может рассматриваться как инвариантная, конститутивная черта образа воительницы. Скорее, наличие у ряда воительниц этой специфической «мудрости» показывает почти фантастичность осуществления женщинами «прямой» власти, так что им начинают приписываться более традиционные, привычные способы успешного противоборства в патриархатном обществе.
 Редкий пример изображения первого поединка Танкреда и Клоринды. Художник: Паоло Доменико Финолья. Часть цикла «Освобожденный Иерусалим». 1640-е гг. Замок Конверсано, Бари.
Редкий пример изображения первого поединка Танкреда и Клоринды. Художник: Паоло Доменико Финолья. Часть цикла «Освобожденный Иерусалим». 1640-е гг. Замок Конверсано, Бари.
То же относится и к довольно распространенным представлениям о божественном или полубожественном происхождении воительниц и даже, казалось бы, противоположные намеки на их родство с хтоническими существами. Так, амазонки изображаются в греческой мифологии как дочери бога войны Ареса; валькирии «классического» типа (о различении «архаических» и «классических» валькирий см.: Гвоздецкая 2012: 44) — небесные девы, именуемые порою «дочерьми Одина»; даже Клоринда из рыцарской поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» представлена как «небес любимое дитя», объект внимания высших сил, а в видении Танкреда после ее смерти — как святая, иконографически сопоставленная с Девой Марией. А вот великанши и «богатырки» русских былин соотносятся скорее с хтоническим миром. Важна сама связь воительниц с потусторонностью, с «иным» миром, ибо невозможно, чтобы здесь, в мире человеческом, женщина стояла наравне с мужчиной без помощи неких таинственных сил, — каковы бы ни были аксиологические полюса этой соотнесенности с иным миром. <...>
Третий вариант «вынесения» воительницы за пределы «нормального», т. е. патриархатного, человеческого сообщества — ее принадлежность особому «женскому» государству; это и страна амазонок, и «страна женщин» (она же «страна блаженства», «острова блаженства») в ирландских сагах, и пр. Такие сообщества воительниц тоже маркируются признаком «где-то там», «не здесь», в ином мире.
2. Какие воительницы появятся в этой книге? (Проблема критериев)
Далее я буду называть «девой-воительницей» такой женский персонаж, который удовлетворяет следующим критериям: характерологическому, гендерному, мифопоэтическому, аллюзивному, номинативному.
В результате анализа большого числа текстов мировой литературы и фольклора можно говорить о том, что героиня-воительница инвариантно наделена такими характерологическими особенностями, как физическая и душевная сила, гордость, суровость, переходящая в жестокость, упорство, способность к сопротивлению и желание одержать верх во что бы то ни стало, которые нередко проявляются в столкновении — в том числе силовом, вооруженном — с героем, влюбленным в нее и / или возлюбленным ею.
Очевидно, что все перечисленные качества полностью противоречат поощряемым в рамках традиционного, т. е. маскулинного, гендерного порядка и патриархатного общества качествам женщины, главное среди которых — добровольность подчинения, так называемая неконфликтность. Следовательно, критерий, названный выше гендерным, означает, что образ воительницы всегда характеризуется нарушением гендерных стереотипов; осуществляется — с разной степенью выраженности — гендерная инверсия, когда героиня получает ряд нормативно маскулинных качеств и совершает ряд традиционно маскулинных действий, причем, как правило, это сопровождается определенной феминизацией противостоящего ей героя и / или второстепенных мужских персонажей. В очень большой степени такая маскулинизация воительницы и феминизация мужского персонажа (а также его инфантилизация, вне рамок сюжета о воительнице обычно совершающаяся в отношении женщин, а не мужчин) реализуются в поэме-сказке М. Цветаевой «Царь-Девица» (1920). В меньшей мере они проявлены, например, в «Кубке метелей» (1907) Андрея Белого, хотя и там, несомненно, присутствуют — ср., в частности, тот факт, что Светлова, соотнесенная с Брунгильдой, замещает Адама Петровича / Зигфрида в роли драконоборца.
С гендерной инверсией связаны многочисленные мотивы и топосы сюжета о воительнице, в частности, константный мотив ношения ею мужского костюма и / или доспеха (и нередко идущий с ним в паре мотив неузнавания героем девы в облике воина). Назову еще довольно частый мотив девственности воительницы, при утрате которой она теряет и свою невероятную силу (Self 2014: 156; Watanabe-O’Kelly 2010: 22): девственность,
«отсутствие детей, отказ от материнства представлял собой принижение женской сущности, переход к некоей андрогинности. Утрата же этой девственности <...> вела к утрате власти, мужской по своему характеру» (Тогоева 2010: 31).
Впрочем, как пишет И. М. Дьяконов, обращаясь к архаической древности, девственность богинь-воительниц в мифологии следует воспринимать расширительно, в рамках различения двух основных функций женских божеств: «резидентки» (матери, супруги) и «девы», «что, конечно, надо понимать не как „девственница”, а шире — как „дева-воительница”, создающая импульс к агрессии и преодолению препятствий» (Дьяконов 1990: 89). Далеко не все девы-воительницы являются девственницами, а некоторые даже рожают детей:
«...Афина и Артемида — девственные богини: очевидно, результат патриархального мышления — возникшего отношения к целомудрию как к особой ценности и соответственно противопоставления супруге-матери не столько гетеры, сколько девственницы. Однако девственность — отнюдь не характеристическая черта божеств этого типа. Более того, сам термин „дева” <...> должен был первоначально относиться не к девственности, а к возрастному статусу <...> Богини-девы <...> и девы-воительницы <...> могут (хотя и редко) даже рожать, но их дети обычно не фигурируют в их культе, как бы „не считаются”» (Дьяконов 1990: 158–159).
Воительница, несомненно, принадлежит типу Virago (от лат. vir — «мужчина», «муж»), определяемому как «женщина-мужчина». Как отмечает Б. Брутен, уже древнеримские писатели могли назвать этим словом как служанку (например, в комедии Плавта «Купец»), так и богинь Афину Палладу (см., в частности, в книге II «Метаморфоз» Овидия), или Диану (в «Федре» Сенеки) и собственно деву-воительницу (Вергилий о Ютурне в «Энеиде»), или амазонку (Лактанций в «Божественных установлениях»), подразумевая во всех этих случаях воинственность и выдающуюся физическую силу, свойственные мужчинам (Brooten 1996: 134).
В Средневековье с этим именованием стали ассоциироваться, с одной стороны, представления о женщине, чьи моральные качества и добродетели (virtu — тоже производное от vir) не уступали мужским. По наблюдениям О. И. Тогоевой,
«в меровингскую эпоху писатели-мужчины создали из „virago“ идеальный образ женщины. <...> Развернутое объяснение данного понятия дал Ратхер Веронский (890–974) в своем „Preloquia”: „Virago, т. е. мужественной, женщина была названа впервые, чтобы мужественно сражаться против грехов и быть послушной словам Господа. Мужчина в душе, но женщина во плоти <...>”» (Тогоева 2010: 32).
Так именовали, в частности, и Жанну д’Арк — первым это сделал Энеа Сильвио Пикколомини (Пий II) в «Знаменитых мужах». С другой же стороны, этим словом иногда называли женщин, склонных к «сафизму» (cм., например, в «Книге дружеских бесед об интимных отношениях любовников» ас-Самуо аль ибн Яхьи), т. е. к однополой любви (Thomasset 1993: 112), что находит параллели в гомосексуальных импликациях, нередко связываемых с образом воительницы, в частности амазонки, в литературе русского модернизма.
Отмечу и еще один любопытный момент: гендерная инверсия в предельных случаях переходит в половую, андрогинность социально-характерологическая — в физиологическую. Как писала К. Эконен по поводу подозрений в гермафродитизме, высказывавшихся относительно З. Гиппиус, присвоившей право писать от лица мужского творческого субъекта, «исключительность поэтического дара Гиппиус вызывала сомнения: может ли такая творческая сила „происходить” из нормального женского тела» (Эконен 2011: 9). То же самое можно сказать о воительницах: их исключительность на фоне нормы гендерного дисплея — не случайно рядом с воительницами обычно показаны «нормативные» женские образы (Watanabe-O’Kelly 2010: 23) — заставляет ставить вопросы о том, может ли их сила «происходить из нормального женского тела».
 «Амазонки Пентесилеи». Николай Калмаков, начало XX в.
«Амазонки Пентесилеи». Николай Калмаков, начало XX в.
Еще А. Н. Веселовский, описавший образ «девушки-воина» на материале народных песен, былин и сказок, причем только таких, где присутствует мотив «испытания пола» в связи с базовым мотивом неузнания героини с мужским поведением и в мужском платье (Веселовский 1890), говорил и о мотиве перемены пола (женское переодевание в мужское платье — его более слабая форма); подробнее он исследовал его в работе «Croissans-Crescens и средневековые легенды о половой метаморфозе» (Веселовский 1881).
Очень яркий случай такого рода в литературе Серебряного века — незаконченная «Повесть о Светомире царевиче» (1928–1949) Вяч. Иванова. В финале, по свидетельству С. Маковского,
«должен был он, Серафим-Светомир, просиять после второго, чудесного воскресения в образе Царь-Девицы и утвердить свое благословенное царствие» (Маковский 1955: 300);
«Воскрес Серафим-Светомир — в преображенном виде, в образе Царь-Девицы, владыки праведного, умудренного ведением потустороннего мира, и просияло его государствование на очищенной от зла земле...» (Маковский 1955: 307).
Царь-девица, напомним, представляет собой один из вариантов образа воительницы.
Имея в виду «софиологический» аспект финала, предсказанного еще в третьей книге «Повести» — «о Царь-Девице, о Деве Света, которая вселится в Светомира и во образе Белого Царя „восцарствует над всею землею“» (Тахо-Годи 2015: 42), и несколько забегая вперед, скажу, что ассоциация воительницы с сюжетом спасения, прежде всего в гностической, софиологической его перспективе, а также с эсхатологическими ожиданиями и с фигурой Спасителя (но также и спасаемого) станет одной из «силовых линий» этой книги.
Мифопоэтический критерий не менее важен, чем уже описанные, для причисления того или иного персонажа к типу девы-воительницы. Речь идет о том, что существует целый ряд мотивов, топосов, сюжетов, берущих свое начало в архаической древности, в мифе, предании, религии, — сюжетов, которые, связываясь с героиней, маркируют ее как воительницу, определяют ее принадлежность как этому типу в целом, так и определенному ее варианту — например, валькирическому.
Так, если в тексте присутствуют такие мифопоэтические элементы, как поедание героиней кровавой плоти, мифологема героини — воплощенной судьбы, ее участие в смерти героя, иногда невольное — вопреки любви к нему, добровольная смерть ради соединения с возлюбленным-врагом в загробном мире, тем более выраженная через мотивы самосожжения или отправления в иной мир на ладье, именование «лебединой девой» или сравнения с лебедем (всё это присутствует, например, в «Гондле» Гумилева), то с огромной степенью вероятности в этом произведении действует «валькириеподобная» героиня.