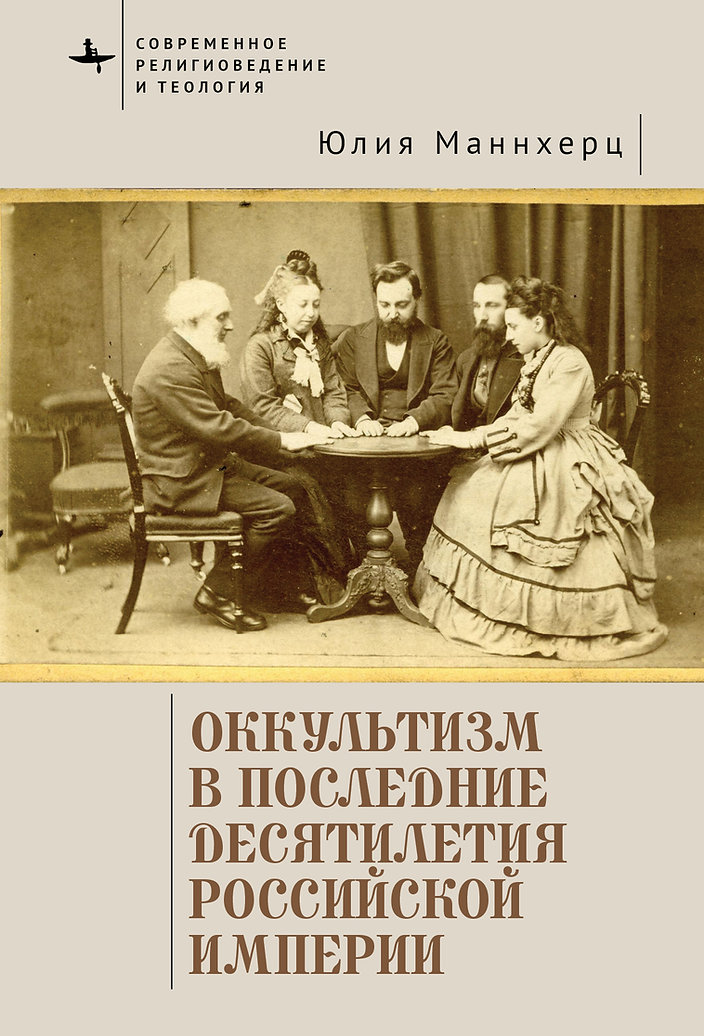Бездарные послания из загробного мира
Фрагмент книги «Оккультизм в последние десятилетия Российской империи»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Юлия Маннхерц. Оккультизм в последние десятилетия Российской империи. СПб.: БиблиоРоссика, 2025. Перевод с английского Дмитрия Гальцина. Содержание
|
Богословов и оккультистов занимали одинаковые темы, такие как индивидуализм, чудеса и наука, но это их не сближало. В нескольких текстах православных авторов, где напрямую заходит речь о модном оккультизме, богословы выражают крайнее пренебрежение к оккультным идеям и практикам. Главное, что отмечали эти авторы: в оккультных практиках не было ничего божественного.
Для анонимного автора, писавшего в «Православном обозрении», спиритуализм представлял собой, по сути, языческую магию, «видоизменение древнеязыческих волхвований, основанных на лжи и обмане», отличаясь от своих древних аналогов лишь современной терминологией. Согласно Е. Тихомирову и И. Визеру, феномены, наблюдаемые во время сеансов, были вызваны бесами. Рождественский, напротив, полагал, что они — чисто естественные явления. Несмотря на такую разницу во взглядах на природу спиритического общения с духами, комментаторы в богословской прессе дружно порицали спиритуализм за то, что он не дает человечеству никаких истин, кроме расхожих штампов. Тихомиров отмечал, что послания, передаваемые из загробного мира, разочаровывают своей бездарностью, даже если они приписываются духам знаменитых людей. Описывая сеанс, на котором он присутствовал, «Сын Отечества» рассказывал, что оракулы от духов были вроде «тех ярлыков „счастия“, какие вынимаются с фотографическими карточками фей нашего света у „раешников“, обещающих вам по известной планете целую груду счастья во вторник или в среду и т. д.». Авторы духовной печати подчеркивали, что спиритуалисты не сформулировали никаких внятных богословских или философских представлений о божественном. Хотя сами спиритуалисты утверждали обратное, истины, которые они передавали, не несли ни малейшего следа откровения. Согласно церковным журналам, такая богословская бесплодность не была случайной. Одному из анонимных авторов казалось невообразимым, что божественное откровение могло быть получено от спиритуалистов, «большая часть» которых — «люди обыкновенные, среднего нравственного уровня, с обычными житейскими слабостями и недостатками», просто потому, что они отличались лишь «какими-либо... физиологическими особенностями — например, избытком в организме какого-либо особого магнетического или электрического тока». Этот автор был согласен с Рождественским, что спиритические феномены составляют часть естественного мира и не содержат никакого божественного откровения. Однако, в отличие от петербургского профессора, он не удостаивал эти феномены даже той долей божественности, которая присуща божьим творениям. Мышление спиритуалистов было лишено «философской глубины...оригинальности... научной доказательности... Спириты — мечтатели в науке, суеверы в философии и вольнодумцы в религии».
Православные авторы писали, что неспособность спиритуалистов открыть человечеству какие-нибудь стоящие тайны происходит оттого, что они не пекутся о собственном спасении. Один анонимный автор, приветствуя критическую реакцию общества на материализм, критиковал спиритуализм как «болезненную реакцию», поскольку он есть «изнанка того же неверия и материализма». Хотя спиритуалисты заявляют, что они «верят в бытие духов и невидимого мира», они в точности такие же, как «неверующие и материалисты», которые «верят только тому и признают бытие только того, что можно видеть, слышать, ощущать». В конце концов, для их веры им необходимы «явления духов в материальной форме, в видимых, слышимых и осязаемых знаках».
Священник и философ П. А. Флоренский описывал спиритуализм как утонченную форму позитивизма в приложении к области метафизического. Вера спиритуалистов, утверждал он, тщетна, ибо в ней нет искупительной фигуры Христа, а потому на ее основе невозможно духовное развитие. В. С. Соловьев, философ и мистик позднеимперского периода, писал на страницах «Православного обозрения» в том же духе.
В 1875 году, когда разворачивался скандал вокруг менделеевской комиссии, Соловьев осторожно поддерживал спиритуализм. Но со временем философ усвоил критический взгляд на спиритуалистические учения, а также на теософскую доктрину. Как и анонимный автор «Богословского вестника», Соловьев приветствовал любые подходы, имевшие целью пробиться через эпистемологические ограничения, которые своим чрезмерным вниманием к кругу «относительных поверхностных явлений или видимостей» наложил на ум материализм. Он считал, что материалистский подход к познанию должен рано или поздно быть преодолен, поскольку он провозглашает невозможным «познание об истинно сущем или о безусловном» и таким способом оставляет без внимания «прирожденную метафизическую потребность человечества, составляющую его характеристическое отличие от животных и потому неискоренимую, пока человек остается человеком». Но несмотря на то что оккультисты ставили своей целью как раз преодоление этих ограничений, они сами воздвигали препятствия на пути духовного опыта. В статье, где говорилось о расколе в русском обществе, напечатанной в журнале «Русь» в 1883 году и в следующем году перепечатанной в «Православном обозрении», Соловьев выделяет три вида «свободного сектантства» в России. Первый был представлен евангелическими группами, учившими, что они «нашли Христа», а потому снискали себе спасение. Вторую разновидность представляли собой морализирующие группы, то есть религиозные группы, убежденные, что сущность христианства заключается в его нравственных учениях, и отвергающие институции, обряды, догматы и таинства, поскольку те отвлекают людей от сущности религии. Третью категорию составляла «группа людей, связывающих религию прежде всего с фактом нашего бессмертия и фактическими отношениями между нами и невидимым миром духов». Это и были спиритуалисты, «которые не только признают действительность так называемых медиумических явлений, но и видят в них основание новой веры, долженствующей заменить собою христианство или по крайней мере радикально преобразовать его на новых основаниях».
Все эти течения, утверждал Соловьев, подчеркивали важность одного из ключевых аспектов христианства: Христа как искупителя, праведную жизнь и общение с духовным миром. Однако каждое из этих учений заблуждается, поскольку не принимает христианства как целого. Заблуждением евангелистов, по мнению Соловьева, было не то, что они признавали важность веры, а то, что они отвергали значение земных дел; морализирующее сектантство справедливо отмечало необходимость нравственной убежденности духа, но обманывалось, пренебрегая «его положительными задачами в мире». Наконец, ошибка спиритуализма состояла «не в том, что он утверждает реальное общение двух миров, а в том, что он упускает из виду идеальные и нравственные условия для такого общения, основывая его не на вере и нравственном подвиге, а на внешнем и случайном факте».
Такая однобокость, заключал Соловьев, и является причиной духовной нищеты спиритуализма. Поскольку все это движение основано на фактах, которые не заключают в себе «ничего такого, что было бы лучше и выше нас самих», от него не следует ожидать ничего, «что возвышало и делало бы нас лучшими». Более того, «в спиритических явлениях и откровениях мы сталкиваемся с тою же самою ограниченностью и несостоятельностью человеческою, которую мы находим в себе самих и от которой мы ищем убежища в религии». Вместо того чтобы сталкиваться с ограниченностью человеческой природы вновь и вновь, человек стремится к тому, «что увеличивает и возвышает его бытие, превращает его из отдельной ограниченной личности в неотъемлемое звено совершенного и безграничного целого, которому можно отдаться, ради которого стоит отказаться от своего эгоизма».
Критикуя спиритуализм, Соловьев в равной степени негативно относился к теософии, которая хотя не так преуспела в массовой культуре, тем не менее повлияла на популярную литературу и была с энтузиазмом воспринята некоторыми интеллектуалами. Соловьев приветствовал Блаватскую за то, что она стремилась преодолеть «узкие воззрения материализма», поучая, к примеру, что человек состоит из разнородных составляющих, будучи, таким образом, чем-то большим, чем «физиологическая функция нервов». Несмотря на «относительные истины», которые открывала теософия, Соловьев считал необходимым отвергнуть большую часть доктрины Блаватской. Его шокировала сумбурность ее писаний, нежелание сформулировать положения веры, которые опирались бы на философские принципы, и «язвительные» тирады в адрес научного мышления, не позволявшие вступать с ней в серьезные дебаты. Кроме того, Соловьев критиковал положение Блаватской о том, что Бог — это не личность, а просто абстракция; он полагал, что это утверждение основано на буддийском учении и делает религиозное откровение невозможным. Соловьев подвергал отдельные моменты учения Блаватской даже более яростной критике, чем Глаголев — Ортолана, а Рождественский — аргумент о четвертом измерении, утверждая, что для этого учения нет никаких оснований. Попросту нет никаких свидетельств о том, что тысячелетние гималайские мудрецы сохранили свою премудрость на пиках азиатских гор, периодически сообщая ее крупицы посредством ментальной силы всему миру. «Учение... которое основывается на каком-то предполагаемом, голословно утверждаемом секрете... никак не может быть признано искренним и серьезным учением», — писал Соловьев. Столь же безосновательно выглядят утверждения Блаватской о том, что человеческая природа состоит из семи компонентов.
Ни малейшей попытки рационально объяснить седмичастность нашего существа мы здесь не находим. Нам просто сообщается как важная и интересная новость, что мы состоим из семи ипостасей. <...> Почему этих элементов семь, а не больше или меньше, решительно неизвестно. Ведь мудреных санскритских слов и соответственных описаний [используемых Блаватской] легко могло бы хватить и на двадцать пять ипостасей...
Богословы, открыто обращавшиеся к разбору модного оккультизма, заключали, что он во многих важных аспектах не отличался от материализма, который сам стремился преодолеть. Однако в их глазах его наиболее предосудительными чертами были следующие: бездарность посланий, получаемых из потустороннего мира, и отсутствие божественного откровения. Оккультизм, утверждали они, не имел своей искупительной фигуры и не давал человеку возможности становиться лучше, преодолевая собственные земные недостатки.
* Фото в начале материала: George Grantham Bain Collection/Library of Congress