«Азиатская кровожадность теперь уж не знала пределов»
Фрагмент сборника «Битва за сырье: Великая война в сердце Евразии. 1917–1920»
Историкам известно, что солдаты из стран Тройственного союза, попавшие в русский плен в ходе Первой мировой войны и оказавшиеся на окраинах царской империи, сыграли значительную роль в борьбе за становление Советской республики в 1917–1920 годах. Однако широко говорить об этом было не принято вплоть до самого недавнего времени. Сборник мемуаров и документов той эпохи, собранных, переведенных и откомментированных Леонтием Ланником, призван отчасти закрыть эту лакуну в наших знаниях. Предлагаем ознакомиться с главой из книги бывшего унтер-офицера австро-венгерской армии Рудольфа Кёстенбергера «С Красной армией по русской Центральной Азии», вошедшей в состав сборника.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Битва за сырье: Великая война в сердце Евразии. 1917–1920. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. Составление, перевод с немецкого, вступительная статья и комментарий Л. В. Ланника. Содержание
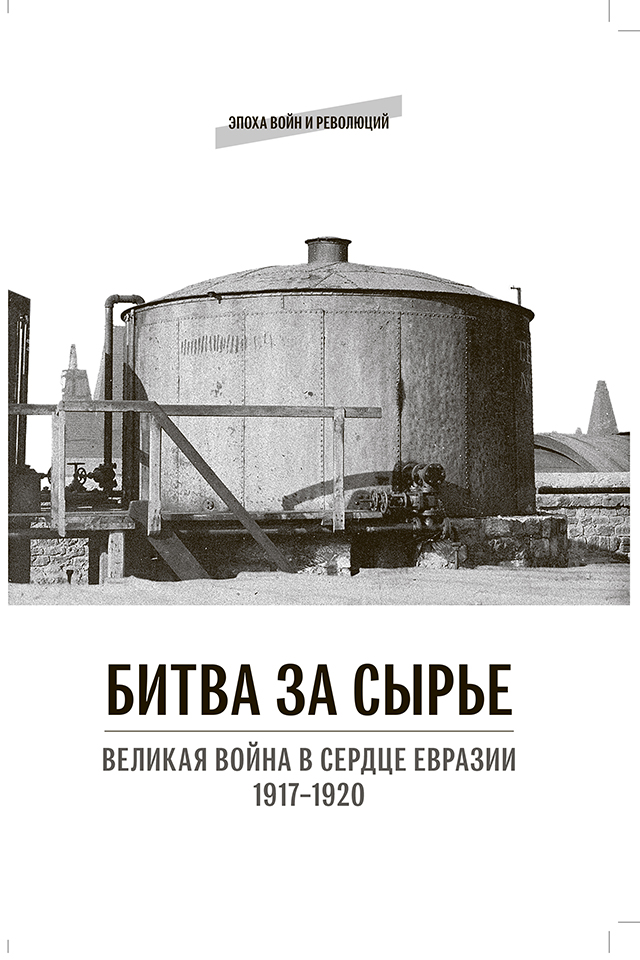
Рудольф Кёстенбергер
С Красной армией по русской Центральной Азии
Глава 1. Восстание в Бухаре
1918 год принес нам, военнопленным, давно желанную свободу, ведь лагеря распустили, и каждый в своей гражданской профессии был теперь свободен и мог найти себе работу в городах. Для нас, тех, кто вот уже почти три года был совершенно отрезан от внешнего мира, это стало весьма серьезным облегчением.
Свобода! Свобода!
Громадное и великолепное чувство, недоступное нам в последние годы в окруженных сторожевыми вышками лагерях, теперь в нас вновь ожило! Во время первой нашей прогулки по городу мы все никак не могли всего этого осознать; мы постоянно боязливо оглядывались кругом, словно в любой момент мог явиться с примкнутыми штыками konvoj, чтобы загнать нас обратно в лагерь. Но нет, он уж более не придет, низкорослый, бородатый конвойный!
Но прежде чем я двинусь дальше, следовало бы отвести читателя и еще немного назад.
Когда в октябре 1917 г. Советы после кровавых столкновений смогли захватить власть, все предприятия и учреждения были централизованы, то есть отобраны у владельцев, а затем они стали в своих же бывших мастерских и лавках простыми рабочими. Можно себе представить, что отныне этим людям вовсе не на розах приходилось почивать. Хотя их же бывшие работники, с которыми они теперь были вынуждены работать вместе, нередко обходились с ними крайне неприязненно.
Чтобы контролировать всех работников, каждая профессия срочно образовала себе sojuz, где должны были зарегистрироваться все рабочие соответствующей отрасли. В этих союзах теперь обязаны состоять и только что отпущенные из лагерей военнопленные; их тоже заносили в списки и уже оттуда отправляли на различные места работы.
В те дни и вопрос с жильем решался весьма рьяно. Так, например, бывшие русские офицеры, предприниматели и прочие обеспеченные люди с их семьями, в основном из четырех-пяти человек, имели по пять — десять комнат. А вот уже ввели комиссию, которая осматривала эти квартиры и тут же на месте раздавала излишние помещения тем, у кого не было жилья. Так, например, семья из шести человек теперь могла претендовать лишь на трехкомнатную квартиру. А особенно болезненным для владельцев квартир стал тот факт, что отобранные у них комнаты приходилось уступать вместе с предметами обстановки. При этом всегда проводили точную инвентаризацию, причем копию списка вручали въезжающим арендаторам, которые затем в случае возможной смены места проживания обязаны были все некогда принятые предметы мебели сдать в присутствии чиновника по описи.
Вот так и получилось, что и мы, военнопленные, получили неплохие комнаты. Надо бы еще заметить, что все дома были переданы в государственную собственность.
Я же в то время получил работу в типографии штаба округа — наборщиком. Там со мной работали еще три немца из Кайзеррейха, а именно литограф, еще один наборщик и машинист пресса. Мы получили такое же жалованье, как и занятые тут же наборщиками русские солдаты, а именно 45 рублей в месяц, кроме того, были обеспечены полным довольствием, а его всегда предоставляли в достаточном количестве. Мы ели из больших, обычных в этой стране медных котлов, партиями по десять человек.
Вот так и прошло время аж до января 1918 г. В те дни уже начали тайком поговаривать, что эмир Бухары намеревается сбросить иго русских и предпринять поход против Советов. И момент был бы для русских крайне неблагоприятным, ведь возвращавшиеся с фронта солдаты уже были демобилизованы, то есть разоружены. С другой стороны, сформированная Советами милиция состояла по большей части из не проходивших военную службу бойцов, среди которых попадались и самые жалкие личности. Всевозможный сброд, не рисковавший показываться на свету, типы, у которых на лицах было написано участие в грабежах и убийствах, — даже такие попадали в ряды милиции.
Когда же правительство Туркестана решило добиться от эмира Бухары суммы податей в размере 45 миллионов золотых рублей, тот отказался платить и немедленно объявил правительству войну.
После этого бухарцы почти сразу разрушили целый ряд участков проходившей по их территории железнодорожной линии между Самаркандом и Каганом, причем подошли к делу весьма основательно. Рельсы с помощью верблюдов сгибали в спираль, шпалы сжигали, мелкие детали железнодорожного оборудования утаскивали далеко в пустыню и закапывали там в песках.
Азиатская кровожадность теперь уж не знала пределов.
Проживавшие в Бухаре европейцы, в том числе несколько сотен военнопленных, были частично вырезаны бушующей толпой, других бросили в темницы и каждый день подвергали издевательствам.
Небольшой русский гарнизон в Кагане после нескольких боев с повстанцами укрылся в здании тамошней сберегательной кассы. Туда же бежали и многие семьи.
Теперь план эмира заключался в том, чтобы побудить к участию в восстании сартов (коренное население).
В ответ на эти тревожные известия Советы провели мобилизацию нескольких возрастов, чтобы подавить восстание в Бухаре. Однако по уже упоминавшимся выше причинам двинуть против повстанцев полноценную армию было невозможно. Призванные на службу были поэтому отправлены в отрядах по 2–3 тысячи человек под командованием бывших унтер-офицеров на вновь появившийся и проходивший совсем рядом с Самаркандом фронт. Такие подразделения назывались otryad, всегда получая название по фамилии того или иного командира, например Попов, Колузаев, Степанов и т. д.
Так как мобилизация продвигалась очень медленно, а ситуация на фронте, да и среди ташкентских сартов, становилась с каждым днем все более критической, правительство решилось под каким-нибудь предлогом привлечь к службе в войсках и военнопленных.
В Ташкентском военном собрании в связи с этим организовали для всех военнопленных совещание, на котором выступили несколько народных комиссаров. Помимо прочего, они сказали, что в тот момент, когда сарты одержат верх в Туркестане, уж в любом случае на кону окажется и наша жизнь, и привели в пример кровавые восстания в Бухаре. Кроме того, на том же собрании нам сообщили, что нас собираются задействовать только для службы в городах, чтобы получить возможность отправить на фронт всех имеющихся русских военных. А еще, что сразу же после окончания мятежей последует и наша отправка на Родину.
Наши представители ответили комиссарам, что у русского правительства нет права мобилизовывать нас как иностранцев; однако если добровольцы из наших рядов вызовутся на такое предприятие, то такому их пожеланию препятствий, естественно, быть не может.
После голосования почти половина присутствовавших военнопленных высказалась за вступление в Красную армию.
Что же сделало столь легким для них присоединение к красным? Было ли это возмущение теми ужасами, что творились в Бухаре? Или все же надежда на скорейшую отправку на Родину? Сказалась ли тяга к приключениям? Кто знает?!
* * *
Итак, большая часть наших людей вступила в Красную армию. С каким же удовольствием эти бедняги сменили свои грязные и подранные в лоскуты мундиры на совершенно новую, русского образца форму!
Население просто диву давалось, глядя на молодцеватое и дисциплинированное поведение австрийцев, а уж особенно увлекала его бодрая процедура смены наших солдат на карауле.
В конце марта 1918 г. ситуация на бухарском фронте стала уже настолько критической, что Советы решили отправить туда и австрийцев.
Так как все мои сотоварищи по лагерю выехали еще первым транспортом, я тоже вызвался вступить в Красную армию, причем только на период восстания в Бухаре. Этот шаг мне был тем более выгоден, что, помимо моего солдатского жалованья, я продолжал получать зарплату и в штабной типографии, так что имел даже два источника существования. Получив оснащение, я был придан одному из отрядов, который в тот же день отправился на фронт. То есть долго мне ждать не пришлось.
Вот так я теперь и выехал, причем вновь в настоящем купе, по всем правилам!
Первая станция, где мы остановились, — Черняево (Урсатьевская). Здесь железная дорога ответвлялась от основной магистрали на Самарканд на восток в Фергану (одну из туркестанских провинций).
После того как наш локомотив пополнил запасы воды, мы отправились дальше до станции Джизак. Это довольно большая сартская деревушка, а глинобитные хижины ее выглядывали промеж акаций в полном цвету, тихо отсвечивая желтым. Стоял прекрасный золотой весенний день. Недалеко от Джизака находились руины города.
После краткой остановки двинулись опять дальше, причем все дальше в Голодную степь. По этому участку дороги я ехал впервые и все время провел у окна, чтобы тщательно рассмотреть здешнюю редкостную панораму. Мертвая, бесконечная степь, насколько хватает глаз. Почва желтая и выжженная, без какой-либо растительности, с бесчисленными трещинами и провалами, образовавшимися от ужасного зноя. Периодически видневшиеся светлые пятна ледяной корки все же подсказывали наблюдателю, что когда-то над этой мертвой испепеленной землей колыхались волны моря… Жара ярилась над унылой глинистой почвой, перетекала, словно расплавленное серебро, и скручивала в мареве воздух, так что казалось, что вся широкая Голодная степь периодически раскачивается.
Наконец мы добрались до Самарканда.
От станции до внутренних кварталов города надо было проехать примерно восемь верст. Широкая тенистая аллея связывала станцию с расположенным, таким образом, довольно далеко от нее городом. Издалека поблескивали снежные вершины могучих Зеравшанских гор.
Наше восьмидневное пребывание в Самарканде мы использовали, чтобы поближе познакомиться с этим в высшей степени интересным городом и его окрестностями.
Оглядываясь назад, следует упомянуть, что Самарканд, как и почти все остальные расположенные в его округе города, построены в оазисах, рассеявшихся по мертвой степи. Почва здесь очень плодородная, особенно замечательно зреют на ней кукуруза и хлопок.
Самарканд разделен на европейский квартал и районы для местных жителей. Первое, что меня поразило в русской части этого города, — замечательно ухоженные и регулярной планировки улицы. Дома редко бывают выше одного этажа, у большинства — небольшие палисадники. В этой части города находятся русская церковь, дворец бывшего губернатора, несколько школ и казармы.
Нечто совершенно особое представляет собой старый город.
Он расположен за пределами русской крепости и населен почти исключительно местными (сартами).
Если смотреть со стороны крепости на специфическую панораму города, в первую очередь можно увидеть по правую руку громадный, выложенный голубым купол могилы Тамерлана (завоевателя и властителя почти всей Средней Азии в XIV в.). Изнутри гробница украшена тонкими арабесками с богатой позолотой, так что на фоне замечательной лазурной голубизны просто дух захватывает.
В Старом Самарканде 165 мечетей, а также высшие богословские школы, училища, где преподают право и арабскую грамматику. Особенного упоминания из достопримечательностей заслуживают мечети Шахи-Зинда и Шир-Дар. Кроме сартов, жили здесь и персы, индийцы, афганцы и евреи, причем последние опять-таки населяли особый квартал.
Ощущение было такое, словно попал на несколько веков назад. Узкие кривые улочки… бесчисленные торговые лавки, одна за другой. Особенным своеобразием отличались могилы святых, которые здесь устраивают прямо посреди улицы, без надгробий и имен, так что их можно опознать только по укрепленному на шесте конскому хвосту.
Сегодня, когда с той поры прошло уже восемь лет, мне все это кажется лишь прекрасной и удивительной фантазией.
Но затем я вспоминаю те незабываемые ночи, что мы провели в парке военного казино. Жонглеры-сарты в их пестрых одеяниях демонстрировали свое искусство, разгоряченные женщины кричали и пели, пылая немыслимым зноем в своих черных блестящих глазах. Стояли до обморока душные ночи, а в небе просто места не оставалось от тысяч белых звезд. Ни дуновения ветерка. Красные бумажные лампады висели на ветвях, бросая матовый свет на кусты и дорожки.
В те чудесные ночи некоторым из нас даже посчастливилось забыть, что они солдаты, солдаты далекого государства и ныне находятся под чужими звездами. И что если завтра и послезавтра придется отправиться дальше, в гущу боев и мятежей, в ту огромную неизвестность, что царит над любыми полями сражений, ухмыляясь воинам…
А у нас было здесь всего-то восемь дней, так что не всё успели мы пережить в этом городе!
Однажды я бесцельно бродил по узким улочкам, мимо меня проходила одна вереница верблюдов за другой, а торговцы превозносили свои товары на все лады. Вдруг подошел какой-то сарт и спросил, не хочу ли я выкупаться. Ванну? Ну что ж, тут было жарко, а будет потом и еще жарче. Да и почему бы мне сказать «нет»? Быстро решившись, я последовал за этим человеком. Но как же я был удивлен, когда увидел, что он ведет меня в очень красивый белый дом, препоручив там слуге. Последний проводил меня по коридору, открыл широкую дверь и пригласил войти. Вдруг я оказался в большом зеркальном салоне, по обеим вытянутым сторонам которого сидели удивительные женщины. Женщины от самых светлых блондинок до иссиня-черных брюнеток, совсем рядом друг с другом: стройные фигуры, породистые лица и великолепной красоты глаза.
Когда слуга заметил, что я вполне достаточно рассмотрел присутствующих, он без слов проводил меня дальше. И опять прошли по узкому коридору, на этот раз мимо множества дверей. Затем он пропустил меня в небольшое помещение и удалился. Здесь я действительно оказался в комнате для мытья. Внутри стояла софа, а над ней на стене висело большое зеркало; из блестящих кранов в голубую кафельную ванну текла горячая и холодная вода. Черт возьми, все это может получиться очень мило! Так что вперед! Но как раз в тот момент, когда я бросил блузу на софу, в дверь постучали. Вошел другой слуга, постарше, и спросил, а не нужно ли мне «мыло». Когда я ответил утвердительно, он уточнил, а какого цвета должно быть мыло: черного, блондинистого, рыжего или…
И вот тут-то меня осенило. Мог ли я злиться на этого человека! Да с чего бы! Так что я немного вернулся мыслями назад и выбрал себе «блондинистое мыло». Человек ушел. Вскоре после этого в дверь опять постучали, на этот раз очень тихо, по-женски…
Но вернемся же назад к Красной армии…
Здесь, в Самарканде, нас придали отряду Степанова, который только что прибыл из Коканда (Ферганская область). Наш теперешний командир был бывший казачий атаман Степанов, и весь отряд получил название благодаря ему.
На собрании Степанов выразил свою радость от того, что теперь к отряду присоединились и австрийцы. Тогда мы выдвинули из своей среды несколько человек, которые вошли в штаб Степанова и были обязаны представлять там наши интересы. Затем последовало распределение по ротам, командиров которых выбрали сами. Командиром нашей роты стал бывший австрийский штаб-фельдфебель по фамилии Шмид, и я должен здесь сразу же отметить, что, к полному нашему удовлетворению, должность эту он занимал еще почти два года.
Последние дни в Самарканде параллельно использовали и для пополнения нашего оснащения. Весь день между станцией и стоявшей на окраине города крепостью двигались сартские арбы (местная разновидность телеги с высокими колесами). В основном возили артиллерийские снаряды.
На восьмой день нашего пребывания от командующего бухарского фронта, находившегося примерно в 80 верстах, пришла телеграмма с просьбой о скорейшей помощи. Тамошние боевые группы Красной армии были полностью блокированы самаркандскими повстанцами. Наш отряд был поднят по тревоге и вскоре после этого выступил к железной дороге.
Боевой порядок у нас теперь был такой: бронепоезд, оснащенный скорострельными орудиями и 12 пулеметами, а кроме того, имевший 250 человек прикрытия. Еще 1000 бойцов пехоты и около пяти sotnien (500 человек) красных казаков разместились в других составах.
В тот же день мы покинули Самарканд. Впереди ехал бронепоезд, затем поезда с остальными нашими силами, а в конце подтягивался еще один бронепоезд с установленными ватными заслонами, на котором находились еще одно скорострельное орудие и два пулемета.
Целью нашей была Кермине.
Однако уже после двух часов поездки, примерно в пяти верстах от Кермине, пришлось нам остановиться, ведь повстанцы разобрали рельсы. Поврежденный участок протянулся примерно на две версты. К счастью, мы везли с собой и несколько вагонов железнодорожных материалов, так что смогли немедленно приступить к починке путей. Каждому нашлось доверху работы, носили туда-сюда шпалы и рельсы, копали и выравнивали полотно.
Наконец, после нескольких часов напряженной работы, дело пошло на лад, и бронепоезд смог медленно продолжить путь к Кермине, причем эту станцию занял крупный отряд повстанцев. Позади них, то есть примерно посередине между Кермине и Катта-Курганом, бои с регулярными бухарскими войсками вел отряд Колузаева, причем фронтом он был повернут к Катта- Кургану. Повстанцы, оказавшиеся прямо перед нами, тем временем также разрушили и железную дорогу, недавно нами починенную, зайдя в тыл Колузаеву, и после этого заняли Кермине. Колузаев попал в крайне неприятное положение.
Медленно, словно огромное чудовище, бронепоезд полз дальше. На некотором расстоянии от него тянулись и другие поезда нашего отряда. Стоял очень жаркий день, справа и слева расстилалась степь, а над ней тихое и высокое, бледно-голубое безоблачное небо. Далеко впереди, в серебряной пелене, тянулись к солнцу высокие тонкие башни. Там была Кермине. То есть мы уже заехали так далеко, а противника до сих пор и близко не видели.
Однако вдруг наш артиллерийский наблюдатель доложил, что видит отряд вражеских всадников, силами в 200–300 коней, который молодцевато ринулся прямо на нас.
Это были бухарские казаки. Всего несколько мгновений спустя вокруг наших голов уже засвистели первые пули. Поезд остановился. Теперь уж огонь по нам вела и укрывшаяся за многочисленными буграми вражеская пехота.
Вскоре в дело вступила наша батарея скорострельных орудий, а пехота наша стала растягиваться в цепи вправо и влево от полосы железной дороги. Местность была лишь слегка всхолмлена. Когда мы уже хотели миновать первую гряду, нас встретили залпом, однако он нам не навредил, ведь казаки стреляли слишком уж высоко поверх голов.
Из-за ближайшего пригорка мы тоже открыли беглый огонь по противнику, поскольку белые тюрбаны были слишком уж хорошей мишенью. Затем подтянули два пулемета, и начался убийственный частый обстрел.
А потом и бронепоезд опять медленно поехал вперед, за чем последовал общий штурм. После короткого яростного боя противник, понесший здесь большие потери, был опрокинут. Мы в стрелковых цепях пошли вперед, подгоняя перед собой повстанцев. Наши потери были невелики.
Прямо перед станцией разгорелся и еще один жаркий бой. Однако здесь уж наша артиллерия была наготове, так что Кермине мы смогли занять в течение часа.
Тут же принялись за восстановление телеграфных линий, но одновременно наши 500 казаков двинулись вдоль железнодорожной линии к Катта-Кургану, чтобы установить связь с отрядом Колузаева.
Выставив на станции крупное охранение, нашу пехоту направили к Катта-Кургану. Наша рота села на бронепоезд, который опять медленно поехал вперед. Всю ночь напролет мы двигались таким образом. На следующее утро мы встретились с передовыми постами отряда Колузаева, которые нас самым теплым образом приветствовали. После этого наша пехота сменила простоявшие в кое-как устроенных окопах вот уже несколько дней войска, которым теперь дали день на отдых.
Мы находились примерно в трех верстах от Катта-Кургана. Город удерживали повстанцы. Дневка наша прошла без серьезных треволнений.
На следующий день, еще до утренних сумерек, мы отправились вперед уже объединенными силами. Наших насчитывалось до пяти тысяч человек. Растянулись в цепь по обе стороны от бронепоезда и начали широким полукругом подходить к станции. Когда на востоке стало светлеть, мы уже были в 800–1000 шагах от вражеских дозоров.
Затем наша батарея скорострельных орудий дала первый утренний привет по Катта-Кургану, после чего вся стрелковая цепь открыла огонь.
Этот внезапный налет оказался для противника столь ошеломляющим, что он даже не подумал обороняться, а просто начал разбегаться со станции во все стороны. Орудия бронепоезда оставляли в рядах бегущих чудовищные бреши. Причиной тому стало то обстоятельство, что бухарцы постоянно объединялись в какие-то толпы, вместо того чтобы бежать поодиночке и желательно на большом расстоянии друг от друга. В ходе этого штурма мы понесли сравнительно небольшие потери.
Катта-Курган, один из важнейших и самых ценных опорных пунктов противника, теперь уже был в наших руках.
Отсюда следовало двинуться дальше к Кагану, чтобы помочь блокированным в здании тамошней сберкассы военнопленным.
Мы немедленно выехали на нашем бронепоезде с 500 бойцами десанта дальше и освободили осажденных военнопленных и русских.
Измученные голодом, они рассказывали нам чудовищные истории о начале восстания, о кошмарных зверствах местных.
Во время обыска в городе мы обнаружили ужасно изуродованные трупы русских и нескольких наших товарищей по плену. Ни одного из местных было не видать. Улицы повсюду кругом словно вымерли, и даже basar — и тот был совершенно пуст. Обнаруженные запасы продовольствия погрузили на арбы и повезли к нашему поезду. Нашими трофеями стали великолепные ковры и целый склад шелковой материи. Все, что могли унести, мы забирали в качестве возмещения за обнаруженные зверства.
В качестве гарнизона был оставлен крупный отряд из четырех пулеметов и двух орудий, в то время как остальные теперь могли вернуться в Катта-Курган.
Предстояло разгрызть крепкий орешек; а именно — взять расположенную поблизости от Катта-Кургана крепость, куда бежали остатки повстанцев, причем, по заявлениям пленных, там будто бы скрывалось до десяти тысяч гарнизона, да еще и имеющих в распоряжении орудия.
Приходилось слышать и такое!
Ну, а мы сразу же приступили к выгрузке из вагонов четырех орудий. Две тысячи человек с четырьмя орудиями и восемью пулеметами должны были взять крепость, пока остальной личный состав удерживал бы станцию и позднее смог бы прийти к нам на помощь.
Точно в полночь мы пошли в наступление. Стояла холодная, ясная погода, полнолуние, залитое той всеохватной и жуткой тишиной, какая бывает только в таком бесконечном степном уединении. Порой откуда-то издалека доносился протяжный голодный вой шакалов, разрезая ночную тишь, — громкий, заунывный, нагоняющий дрожь.
После двухчасового марша мы уже начали постепенно различать очертания крепости, окруженной громадной глинобитной стеной. Чернели на фоне светлеющего неба фантастическими очертаниями широкие башни и стены.
И вот уже кое-как поставили на позиции с четырех сторон орудия, подготовили пулеметы и устроили себе укрытия. Затем мы в напряжении распластались на голой земле, пролежав так около часа: полное затишье перед бурей.
Как и договорились, точно в половине четвертого утра должны были открыть огонь. Но оставалось еще 15 минут. На востоке становился все заметнее бледный, молочный отсвет, а вой шакалов доносился теперь реже. В бинокли мы могли видеть бухарских стражников, прогуливавшихся по крепостным валам взад-вперед и ни о чем не подозревавших.
И вот еще пять минут… три… одна!
Вдруг первый пушечный выстрел рассек эту всеохватную, жутковатую тишину, а потом словно по команде пошли снаряд за снарядом, без перерыва, целый час напролет.
А мы все лежали и смотрели, как падают и рушатся куски стен на многих участках. Отчетливо видно было, как бестолково, словно овцы, бегают кругом повстанцы.
В момент, когда мы двинулись вперед, начала стрелять и вражеская артиллерия. Однако что за жалкие это были орудия! Заряжали их просто камнями, болванками и обрезками металла, да и пролетали они едва ли тысячу шагов. Даже издалека было видно, как подкатывают каменные ядра. Большая часть повстанцев была вооружена старыми мушкетами, так что с нашими пятизарядными карабинами они, естественно, не шли ни в какое сравнение.
Винтовочный огонь с обеих сторон вели все яростнее. Так как мы постоянно находились в секторе обстрела, приходилось наступать лишь перебежками и выкапывать все новые укрытия. Однако вперед все же шли.
Уже вскоре после полудня мы овладели крепостью. Бежали все те из противников, что только смогли бежать. Множество убитых и раненых лежали между разбитыми глинобитными стенами. И только теперь мы по-настоящему рассмотрели, сколь чудовищное опустошение сеяла наша артиллерия в глубине крепости.
Раненых кое-как перевязали, оставив их на свободе, а мертвых похоронили за пределами крепости. Но чтобы и здесь не погрешить против истины, я должен упомянуть, что русские, несмотря на наши протесты, безжалостно прикончили попавших в их руки раненых, и из-за этого чуть не дошло до стычек с ними. К счастью, как раз подоспел наш командир Степанов, которому мы объяснили положение дел, одновременно энергично подчеркнув, что мы, австрийцы, если подобные зверства повторятся еще раз, немедленно развернем свой otryad и уйдем отсюда. После этого Степанов отдал приказ, который под страхом смерти запрещал приканчивать раненых противников.
С другой стороны, тут же я должен заметить, что годом позже этот приказ был вновь отменен, причем случилось это на фронтах под Илецком и Асхабадом, ведь на первом из них уральские казаки, а на другом белогвардейские офицеры и англичане без пощады истребляли любого взятого в плен, будь он ранен или нет. Красная армия была поэтому вынуждена ответить по принципу «око за око».
С взятием крепости восстанию в Бухаре был положен конец. Эмир выслал к нашему командиру делегацию во главе с высокопоставленным вельможей, который имел полномочия вступить в мирные переговоры. Прибытие делегации стало для нас настоящим событием. Ведь мы впервые видели столь знатных бухарцев в их живописных одеяниях. Это были уже весьма пожилые люди с длинными бородами, их шелковые, вышитые золотом халаты посередине были опоясаны широкими серебряными поясами — знаком их ранга. Головными уборами их были тюрбаны из снежной белизны муслина, богато украшенные поблескивающими аграфами. Серебряная упряжь лошадей блистала на солнце, а кони были самых благородных кровей.
Переговоры окончились тем, что Бухара согласилась выплатить военную компенсацию в 20 миллионов рублей золотом, а кроме того — на руки каждому солдату нашего отряда по 850 рублей. Золото это взял наш командир, а нас выбрали, чтобы мы конвоировали его на пути в Москву, где Степанов должен был сдать эту контрибуцию тамошнему Совету. Однако до осуществления этого плана так никогда и не дошло, ведь тем временем чехи и казаки перерезали путь в Центральную Россию, а Степанов еще до этого расстался с жизнью, о чем еще будет подробно рассказано в третьей главе. Дальнейшую судьбу золота окутывает непроглядный мрак…
Оставив на станции крепкую стражу, мы поехали из Катта-Кургана назад в Каган, где затем оставались еще целую неделю.
Пребывание там я с несколькими товарищами использовал для вылазки в расположенную примерно в шести верстах сартскую столицу Старая Бухара. Европейцам всегда было очень трудно попасть в этот город, но нам вследствие изменившейся обстановки теперь можно было осмелиться на такое без лишних колебаний. Отрядами по 4–5 человек мы верхом проехались по столь уникальной древней столице.
Ровно через неделю мы направились назад в Ташкент, где был устроен помпезный прием на вокзале. Весь гарнизон выстроился, чтобы нас поприветствовать. Казаков, президент Туркестана, в своей речи подчеркнул, что победу в Бухаре следует записать на счет в первую очередь тех австрийцев, что сражались в рядах отряда Степанова. После этого продефилировала рота почетного караула.
Потом наши поезда отогнали на запасные пути, а большинству из нас предоставили 14-дневный отпуск для отдыха. Период моей службы, собственно, уже закончился, однако эти вечные перемены стали уже столь привычными, что я решился и далее оставаться в отряде.
На следующий день я отправился в штабную типографию и забрал там мое жалованье, превратившееся тем временем в изрядную круглую сумму. Уж конечно главным образом из-за таких материальных выгод к нашему отряду теперь опять присоединилось довольно много военнопленных.
Вот так и окончился первый период моей службы в рядах Красной армии.
Что же принесет следующий? В какую сторону света пойдем теперь — куда же, куда?
Полыхало и бродило почти везде.
А держава эта столь велика — едва охватишь умом…