Атлантида советского нацмодернизма
Фрагмент книги об истории формального метода в Украине
Галина Бабак, Александр Дмитриев. Атлантида советского нацмодернизма: формальный метод в Украине (1920-е — начало 1930-х). М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание
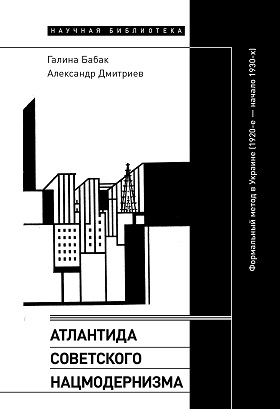 Виктор Шкловский. «Цемент и мандат». Статья для «Вечернего радио»
Виктор Шкловский. «Цемент и мандат». Статья для «Вечернего радио»
К истории публикации
В 1926 году в газете «Вечернее радио» от 21 июля была напечатана небольшая статья Виктора Шкловского «Цемент и мандат», написанная специально для этого издания. В заметке, помещенной в той же газете днем раньше, сообщалось, что в Харьков прибыл «известный писатель и теоретик литературы Виктор Шкловский», приезд которого связан с переговорами с ВУФКУ о постановке фильма по его сценарию. Предположительно именно в эти дни, 20–22 июля, Шкловский выступил с открытой лекцией во Всеукраинском коммунистическом институте журналистики.
Из переписки Владимира Маяковского и Лили Брик можно установить, что, вероятнее всего, Шкловский оказался в Харькове проездом в Евпаторию, где примерно с 22 июля по 2 августа на Ялтинской киностудии ВУФКУ проходили съемки фильма «Евреи на земле», сценарий к которому написали Маяковский со Шкловским. Организатором съемок выступила Лиля Брик, режиссером — Абрам Роом, оператором — Август Кюн.
Цемент и мандат
Кость состоит из извести и соединительной ткани.
Железобетон из железа и цемента с песком и гравием.
Железобетон крепок, как кости. Из него сейчас создаются кости индустриализирующейся России.
СССР — это Россия плюс советская власть и железобетон.
Была Россия мягкая. С мягкими от грязи и пыли дорогами. С нековаными лошадьми, с мягкими соломенными крышами. Сейчас она заводит кости.
Это как в зародыше, в эмбрионе создаются точки окостенения. СССР твердеет с промышленных городов, с заводов. Твердеет от угля Донбасса, от стали Урала и южных копей, от нефти.
Гладков написал роман «Цемент». В этом романе описано восстановление цементного завода.
Но в романе заводы восстанавливаются иначе. Они твердеют не для себя, они железы всей страны.
Цементный завод, только что восстановленный в Новороссийске, создаст ребра электрических станций, плотины в реках, мосты через реки, перекрытия в домах, берега на каналах орошения и даже шпалы на железных дорогах.
Такие шпалы крепче и в конечном счете выгоднее, чем деревянные.
В конечном счете и жизнь сейчас интереснее и значительней романов. Она также и смешней комедии.
В театре Мейерхольда на сцене с вращающимся полом на фоне каменной стены, там, за колосниками, уже в который раз идет «Мандат».
«Мандат» — пьеса сборная, она вся собрана из анекдотов и острот, из всего того, чем пытаются отшутиться сейчас люди.
Действующие люди в пьесе: ненастоящий коммунист с ненастоящим мандатом, который выдан будто бы ему домовым комитетом.
И ненастоящая Анастасия Николаевна, великая княгиня в сундуке.
Пьеса веселая и невероятная. Случайно одели кухарку в парчовое платье. Потом случайно посадили ее на револьвер. Еще вылили на нее ведро воды, чтобы револьвер не выстрелил. А потом приняли ее за Анастасию. Пьеса написана Эрдманом и кажется достаточно невероятна.
Но еще невероятней событие совершилось в Берлине.
Там появилась Анастасия Николаевна. Я, говорит, государя покойного дочь и спасена верным солдатом поляком. А в доказательство, пожалуйста, получите фотографическую карточку.
Если я не похожа, так это потому, что постарела от годов и сильных переживаний.
Самое замечательное в этом заграничном «Мандате» — это то, что тамошняя Анастасия говорит по-польски, а по-русски не говорит.
Что даже изумительно, русских женщин за границей много. Но они оказались не так догадливы. Им показалось, что дело не стоящее.
Николай Николаевич Анастасию Николаевну не признал.
Зато признал ее Кирилл.
Он, как инокиня Марфа, мать Димитрия, всех признает за сына.
Впрочем, и Марина Мнишек признала многих.
Заграничные газеты обрадовались.
О цементе они не печатают. А на «Мандат» готовы написать пародию. Пишут они по этому поводу, что Россия страна ужасная, что в ней даже в великих княжнах разобраться нельзя.
В этом самозванстве интересно желание добиться призрака.
Загробное честолюбие.
— Я, — говорит эта странная полька, — ваш прошлогодний снег. Вероятно, все это призрачное величие кажется очень доступным.
Димитрий Павлович — муж знаменитой портнихи.
Еще кто-то — инструктор американских гостиных.
Люди попроще — шоферы на такси, просто люди — раскинуты по пескам Африки, по болотам Южной Америки, копают уголь, убивают и чистят ботинки.
Люди всасывают землю, как пролитая вода. Не весело играет за границей императорским именем подписанный Мандат.
Гнутся слабые, лишенные цемента кости.
 В.Б. Шкловский и В.В. Маяковский, 1923. Фото Осипа Брика
В.Б. Шкловский и В.В. Маяковский, 1923. Фото Осипа Брика
Михаил Могилянский о «Сентиментальном путешествии» Виктора Шкловского
Книга воспоминаний известного теоретика литературы — «формалиста» В. Шкловского является удивительным сочетанием яркого таланта с наглой распущенностью, которая иногда граничит с je m’en fichism’ом [je m’en fiche — «мне все равно, наплевать»], глубокие мысли и утонченность ощущений с наивным хвастовством и наивным «гениальничанием», которые идут вместе с удивительной искренностью...
«Я воскресил в России Стерна, сумев его прочесть». «В 15 лет я не умел отличать часы, сейчас с трудом помню порядок месяцев. Как-то не уложились они в моей голове. Но работал, по-своему, много, много читал романов и знаю свое дело до конца». С чем-то подобным читатель встречается и в книге passim. Неприятно удивляют такие места: «Я даю свои показания. Заявляю: я прожил революции честно...» Человек, который себя уважает, никому не позволит сомневаться в своей честности, и делать подобные «заявления» у него нет необходимости... В целом, В. Шкловскому часто не хватает вкуса, чтобы понять, что кое-что не подобает говорить о себе: часто сказанное про человека другими совсем по-другому звучит, если бы человек поспешил сам сказать это о себе.
Но талант не так распространен, и за него читатель многое простит автору. Воспоминания Шкловского рассказывают про тревожную и великую эпоху, помогая читателю не только в общих чертах сориентироваться в событиях, более-менее известных, но и отметить ее особенности, что интересно не только широкому кругу читателей, но и ценно для будущего историка. В этом состоит интерес и ценность острых, хоть иногда и распущенных, в любом случае талантливо написанных воспоминаний В. Шкловского.
Владимир Державин о «Гамбургском счете» Виктора Шкловского
«Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться. Гамбургский счет необходим в литературе». Насколько содержание этих строк, взятых в качестве эпиграфа ко всей книге В. Шкловского, отвечает спортивной действительности, не будем сейчас рассматривать. Речь о том, что борцы «по гамбургскому счету» борются, как утверждает автор, при закрытых дверях и завешенных окнах, так что борьба никакому контролю со стороны широких кругов не поддается. Поэтому несложно представить себе ловкого репортера, который бесконтрольно ссылается на обстоятельства гамбургского соревнования с целью продвижения своих знакомых и протеже, чтобы обесчестить недругов.
Есть основания побаиваться, что применение «гамбургского счета» к современной художественной литературе, на чем настаивает В. Шкловский, аналогично подобному репортажу, тем более что автор, выступая единственным арбитром, нисколько не считает необходимым серьезно аргументировать свои оценки. Несколько примеров: «Бабель — легковес». Если это перевести на понятный язык, то это, наверное, значит, что Бабель не принадлежит ни к старому, ни к «Новому ЛЕФу», поэтому про него нужно пренебрежительно высказываться. Характерно, что, собственно, специальная статья В. Шкловского про Бабеля, помещенная в этой же книге, не дает никаких оснований так пренебрежительно оценивать Бабеля. Другими словами, автору самому было стыдно аргументировать сказанную им в начале книги глупость.
«Хлебников был чемпионом». Хлебников был будто специально создан для того, чтобы подтверждать сомнительный (как известно) тезис Ломброзо про внутреннее родство гениальности и сумасшествия. «Чемпионом» мог Хлебников быть только среди футуристов первого призыва — слишком бездарных Бурлюков, Крученых и т. д., среди которых он, действительно, выделялся, как выделяется каждый талантливый человек в обществе «бойких» и бесталанных профессионалов.
«Всеволод Иванов — писатель настоящий». «Всеволод движется сейчас стремительно на Запад — к сюжету, к Уэллсу». Достаточно даже бегло просмотреть последние произведения Вс. Иванова (хотя бы «Гибель Железной», «Красная новь», 1928, № 1), чтобы убедиться, что его движение «на Запад» — чистехонькая фикция, выдумка, запущенная с целью поддержания репутации (поскольку пошатнулась) второстепенного бытописателя, которого Воронский со свойственной ему опрометчивостью определял когда-то в «великие писатели земли русской».
Не стоит накапливать примеры; и так уже ясно, что попытка В. Шкловского обосновать литературную критику — и оценку — с помощью формального анализа проваливается, тем более что у В. Шкловского формальный анализ идет сам по себе, а личные литературные вкусы сами по себе. Так и в статьях про Ларису Рейснер, где автору пришлось умолчать девять десятых ею написанного, чтобы хоть как-то свести концы с концами; так и в заметках про советский фельетон, где автор хвалит результаты и ругает принципы; и так, по сути, везде в этой книге, когда речь заходит о современной литературе.
Стоит поговорить о другом — о «социологическом методе», как его понимает и применяет В. Шкловский. Тут нечего говорить — социологические комментарии В. Шкловского к повести «Капитанская дочка» (в вопросе про классовое преломление и переиначивание исторических фактов, которые были известны Пушкину) интересны с методологической точки зрения, а значительная часть его аргументов против Переверзева (по поводу упрощения и схематизации социологического анализа) достаточно ценны.
Интересен также высказанный им следующий принцип, который, по нашему мнению, заслуживает серьезного внимания всех, кто научным литературоведением интересуется: «Так как литературные произведения в своей технике изменяются довольно быстро и во всяком случае претерпевают за несколько лет часто очень серьезные изменения, то для выяснения влияния на них социального базиса нужно исследовать этот базис в том же масштабе, то есть в той степени разделительности, которая соответствовала бы реальным изменениям литературного материала».
И все-таки применение социологического метода имеет у В. Шкловского случайный и слишком фрагментарный характер. Вместо социологического метода выходят отдельные (иногда интересные и с фактической, и с методологической точки зрения) экскурсы в область социальных оснований литературных произведений. Конечно, когда автор пишет о своей и Б. Эйхенбаума работе над историей литературных гонораров и над историей тиража книг, что это «работы, которые необходимо сделать», то отрицать это не приходится.
Тем не менее пока что В. Шкловский ограничивается рассмотрением социальной значимости литературного произведения, т. е. того социального содержания, которое в него вложил автор, и оставляет в стороне социальную функцию произведения — его социальное влияние на читателя, которое пересекается с социально обусловленным подходом читателя к данному произведению. Одним словом, В. Шкловский рассматривает художественное произведение как социальный факт (что само по себе, разумеется, правильно), но не как социальный фактор, что более важно. Ошибочно думать, будто социальная функция произведения настолько тесно обусловлена его социальной значимостью, что нет необходимости рассматривать ее отдельно, и что читатель в своем социальном восприятии произведения никак не ограничен ни сознательным замыслом автора, ни реальной социальной обусловленностью самого произведения.
Подобное — более-менее «самовольное» — понимание художественного произведения будет, конечно, «ошибочным»; но такие читательские «ошибки» в целом составляют могущественный фактор в литературной эволюции.
Так, вернемся к «Гамбургскому счету»: то, что В. Шкловский работает над социальной значимостью литературных произведений, хорошо; что он намеревается взяться и за экономическую их функцию (тираж и гонорары), еще лучше; но пока не дойдет дело до социальной функции произведений, до их роли в эволюции общественных вкусов и настроений, до тех пор не выйдет ни социологического литературоведения в целом, ни даже закономерной связи между социальными и чисто формальными (не тематическими) элементами произведения. Поскольку само по себе наличие или отсутствие рифмы и цезуры в стихотворении (возьмем самый простой пример) не есть классовое явление, а вот социально обусловленное восприятие читателя — другое дело: тут оно приобретает классовое значение.
Для полноты рецензии отметим, что около половины книги наполнено заметками о современном кинематографе, а также личными воспоминаниями и дорожными фельетонами автора — «интересными» и не особо серьезными.