Аристотель — ограниченно мыслящий расист
Из книги Шади Бартш «Платон едет в Китай»
После событий на площади Тяньаньмэнь китайские чиновники начали кампанию по обличению «культа» демократии, обратившись к пересмотру античных истоков этой формы государственного правления. О том, как с тех пор интеллектуальный истеблишмент КНР воспринимает труды Аристотеля, читайте в отрывке из книги историка Шади Бартш «Платон едет в Китай».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Шади Бартш. Платон едет в Китай. М.: Лед, 2025. Перевод с английского Максима Леоновича. Содержание
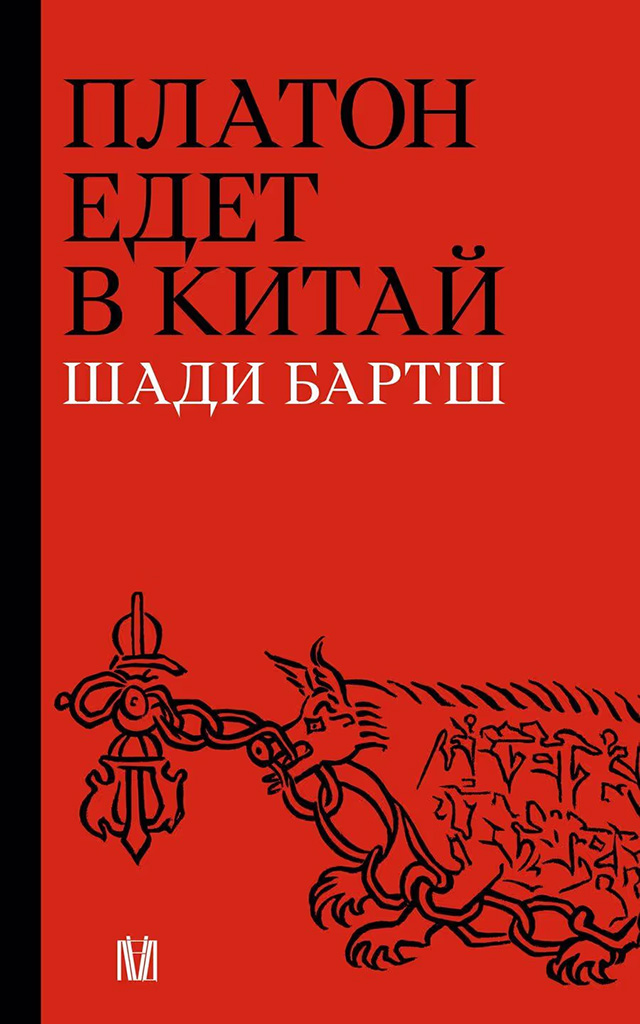
В феврале 2012 года в газете The New York Times появилась публицистическая статья с интересными высказываниями насчет будущего Соединенных Штатов. Автор — китайский сторонник идеологии национальной исключительности и венчурный капиталист Эрик Ли утверждал, что американскому правительству следовало бы внимательно присмотреться к классическим Афинам и судьбе их демократии, прежде чем трубить об универсальной ценности американской демократии. Проводя прямую параллель между Афинами и современной Америкой, Ли утверждал, что:
История управления человеческим обществом, насчитывающая тысячи лет, знает два крупных демократических эксперимента. Первый — это древние Афины, продержавшиеся полтора века, а второй — современный запад. Если определять демократию как «один гражданин — один голос», то американской демократии всего 92 года. На практике же ей всего 47 лет, если начинать отсчет после принятия Закона об избирательных правах 1965 года, и это гораздо более мимолетный период, чем почти любая китайская династия. Почему же столь многие смело заявляют, что они открыли идеальную политическую систему для всего человечества и что ее успех гарантирован навечно?
Конечно, сделанное Ли сравнение может показаться странным. Почему, критикуя американскую демократию, Ли упомянул античные Афины (подобно энтузиастам, предлагавшим реформы в прошлом веке), хотя лишь немногие из их институтов имеют отношение к современной американской демократии? В отличие от Китая и США, Афины были прямой демократией, в которой чиновники (кроме военных и финансовых лидеров) выбирались по жребию. После принятия Периклом Закона о гражданстве в 451 году до н. э. оба родителя-гражданина должны были быть афинянами, что сделало афинскую политическую систему закрытой с доступом по праву крови, а это далеко от нашего понимания демократии. Классические Афины в период своего расцвета насчитывали 30 000 граждан, в то время как в США проживает 330 миллионов — афинское прямое демократическое голосование совсем не подходит для масштабирования. Афинские женщины не были гражданами; суд присяжных мог состоять из 501 человека; а глава городских властей — архонт-эпоним — занимал свой пост один год и нес ответственность, когда уходил в отставку.
Так зачем же сравнивать США с Афинами? Можно утверждать, что Афины, будучи первой демократией, как отмечал Ли, способны нанести сильный идеологический удар, в отличие от сомнений отцов-основателей по поводу афинского прецедента. Но ответ, похоже, заключается в том, что Ли решил использовать критические к афинской демократии материалы, которые в античности уже имелись в изобилии. Он сделал это по тем же причинам, по которым Аристотеля превратили в сторонника демократии во время движения «Четвертое мая», — чтобы опереться на авторитет этих текстов как (а) древних и (б) как предполагаемого источника современной западной цивилизации. Возможно, Ли исходил из подразумеваемой Платоном критики невежественных масс и откровенной оценки Фукидидом проблем Афин в «Истории Пелопоннесской войны», чтобы подкрепить свое обличение демократии, которое так же старо, как и сами демократические Афины. Даже те американцы, которые идеализируют античные Афины, делают это вопреки некоторым критическим замечаниям древности:
Современное желание обращаться к Афинам за наставлением или поощрением современной философии, правительства или общественного устройства неизбежно наталкивается на этот странный парадокс: люди, породившие и практиковавшие античную демократию, не оставили нам почти ничего, кроме критики этой формы правления (на философском или теоретическом уровне). Более того, реальная история Афин в период их демократического правления отмечена многочисленными неудачами, ошибками и проступками — наиболее печально известна казнь Сократа, — которые, казалось бы, должны дискредитировать повсеместно распространенную современную идею о том, что демократия ведет к благоприятному правлению.
Современные китайские интеллектуалы, такие как профессор Пань Вэй из Пекинского университета и Пань Юэ из Центрального института социализма в Пекине (Чжунъян шэхуэй чжуи сюэюань, 中央社会 主义学院, согласились бы с этим: критика Фукидида и утрированная картина идеального полиса в «Государстве» Платона являются реакциями именно на «неудачи, ошибки и проступки» афинской демократии.
Конечно, это посттяньаньмэньская трактовка Фукидида. До событий 1989 года этот историк, похоже, был известен разве что ученым, видевшим в его работах красноречивые предпосылки к материальному социализму, а не предупреждения об опасностях демократии. Ли Чанлинь (李长林) полагает, что:
Наивно-материалистический взгляд на общий исторический фон [в «Истории Пелопоннесской войны»] в целом выражается в трех аспектах: стремлении отделить человеческую историю от состояния единства Бога и человека, сосредоточении на обсуждении причинно-следственных связей между историческими событиями и попытке объяснить причины исторического развития в терминах экономических отношений.
Чжан Гуанчжи (张广智) превозносил Фукидида в контексте восхваления «блестящей мудрости выдающихся людей» Древней Греции IV века. Фукидид был «знаменитым представителем историографии того времени, чья „История Пелопоннесской войны“ опиралась на простой материализм и реализм. Что касается наивного материалистического взгляда на историю в работах Фукидида, то в нашей истории, кажется, вообще нет ни одной историографии». Другие авторы до 1989 года хвалили Фукидида за его внимание к экономике или сравнивали его с древнекитайским историком Сыма Цянем. Китайскому правительству до 1989 года Фукидид, видимо, не был особенно полезен.
В отличие от него, Ли практически цитировал Фукидида, утверждая, что сегодня Америка страдает от недугов, характерных для ее политических и интеллектуальных предков. Как говорил Ли о современных США, «избранные представители не руководствуются собственным разумом и лишь реагируют на прихоти общественного мнения, заботясь о переизбрании». Эта критика подробно изложена в «Истории Пелопоннесской войны», где Фукидид, задолго до Ли, утверждал, что одним из факторов упадка афинской демократии была фатальная неспособность граждан делать мудрый выбор в руководстве из-за необходимости льстить или угождать массам. По мнению Фукидида, только дальновидный и волевой полководец Перикл был способен контролировать массы, поскольку не знал ни корысти, ни страха.
Перикл, благодаря своему статусу, способностям и известной честности, имел возможность осуществлять независимый контроль над толпой, то есть вести, а не быть ведомым; поскольку он никогда не стремился к власти нечестным путем, он не был вынужден льстить им, а, напротив, имел столь высокую репутацию, что мог позволить себе разгневать их спорным решением.
Однако после смерти Перикла афинский народ выбирал одного демагога за другим, доверяясь любому политику, обещавшему ему личную выгоду, и не желая идти на жертвы или ограничения, которые позволили бы Афинам остаться победителями в Пелопоннесской войне.
Ли сделал радикальное предположение о том, что, судя по продолжительности жизни афинской демократии, «история не сулит Америке ничего хорошего на ее пути. В самом деле, ее основанное на вере идеологическое высокомерие может в скором времени столкнуть демократию в пропасть». Американцы, как и граждане афинского полиса (и как полководец Перикл в знаменитой похоронной речи о погибших воинах), возвели демократию в ранг абсолютного блага, даже своего рода религии. По словам Ли, «современный запад рассматривает демократию и права человека как вершину развития человечества. Это убеждение, основанное на абсолютной вере». Подобно тому, как Афины считали себя образцом для других государств, большинство американцев полагают, что их политическая система может стать (по выражению Перикла) «школой Эллады». Это самовозвеличивание лишает американских избирателей способности сделать выбор, который не был бы обусловлен их «религиозной верой» в то, что демократия — лучшая форма правления.
Критика Ли американской демократии с опорой на классические тексты является примером интеллектуальной деятельности многих политических комментаторов по всему Китаю. Линь Цифу и Дун Цуньшэн с факультета политологии Цзилиньского университета утверждают в «Вестнике партийной школы комитета провинции Фуцзянь», что изучение ограничений афинской демократии может дать представление о проблемах «современной демократической политики», поскольку древнегреческий полис «подобен» нынешней западной демократии. Эти авторы считают вероятным, что, поскольку жители древних Афин объединили взгляды Платона на мораль и Формы с комментариями Аристотеля о гражданстве и этике, им промыли мозги и убедили в том, что их долг — постоянно стремиться к высшим и самым трансцендентным формам морального совершенства. Таким образом, демократия фактически ограничивала свободу граждан, лишая их независимого мышления. Более того, общая убежденность в том, что полис главенствует над отдельным человеком, ограничивала разнообразие и индивидуализм, придавая чрезмерное значение консенсусу:
Граждане не являются независимыми в индивидуальном смысле, поскольку человек — лишь часть сообщества города-государства <…>. Основа «человечности» — проявление качеств и добродетелей гражданского общества полиса. Люди здесь упрощены и сведены к символу однородности групп граждан. Мерилом служит то, в какой степени они способны удовлетворять интересы города-государства и служить общему благу.
Это гражданин Аристотеля, но поставленный с ног на голову. Именно потому, что город-государство стоит выше гражданина как самая ключевая единица демократии, гражданин подвергается цензуре в своем поведении и убеждениях, что не может отвечать его интересам как индивида, но отвечает интересам города-государства. Это ограничение сдерживает появление новых идей, и в любом случае превосходство того или иного рода воспринимается как угроза для более крупного целого. Отсюда и существование остракизма — афинского института изгнания выдающихся граждан. В качестве перевернутого отголоска взглядов Лян Цичао на китайских граждан мы читаем: «Свободные граждане у Аристотеля вовсе не свободны; напротив, они — рабы».
Как и другие, Линь и Дун обращались к трудам Фукидида для дальнейшей критики Запада. По их мнению, сама среда демократической политики способствует развращению личности, поскольку демократические лидеры прибегают к риторике, софистике и эмоциям как к средствам манипулирования общественной дискуссией. Как показано в повествовании Фукидида о митиленских дебатах, граждане голосуют коллективно в момент страсти и порыва и жалеют о своем решении уже на следующий день, то есть «сила слова в период расцвета афинской демократии часто используется уже не для поддержания общей нравственности, а как средство достижения людьми узких или личных практических целей. А сами люди могут и не подозревать о разложении города-государства». Если судить по тому, как древние Афины характеризуют Линь и Дун, в них царила жажда наживы и власти, нравственные ценности исчезли, корыстные интересы вышли из-под контроля, проигравшие во фракционной борьбе были изгнаны, а власть принадлежала бездумной массе. Наконец, поскольку коллегии присяжные состояли из 201–501 граждан, то массы, в сущности, контролировали и ограничивали самих себя, что является порочным кругом. Не все из этого имеет параллели с современной демократией, но в их статье все наблюдения Фукидида используются для ее осуждения.
Вдобавок к этим проблемам, пишут Линь и Дун, афинская демократия «поощряла коллективное суждение» и тем самым «ограничивала и подтачивала личное мышление, независимость слова и творческий потенциал». Это противоположно обычному мнению о том, что сообразительность, необходимая для подкрепления своих аргументов, обычно развивает критическое мышление. Но авторы утверждают, что активное использование в Афинах риторики также было посягательством на благо государства и индивида:
Личности должны быть готовы и способны отвечать за свои поступки. Существует ли такая личность в афинской демократии? <…> Складывается впечатление, что лишь четкий и стабильный консенсус по вопросам справедливости может заставить афинскую демократию принять ответственность. Но, к сожалению, афинское представление о справедливости не имеет четкой и стабильной природы. <…> Для ответственности здесь не хватает внешних ограничений, а для принципов справедливости — понятных ориентиров, и афинские граждане в совокупности считают, что могут делать все что угодно. <…> Их больше беспокоит то, как применять риторику в споре, чтобы софистикой и другими способами выражения эмоций заставить других принять их мнение. <…> Эмоции обычно преобладают над разумом <…>. Граждан провоцируют действовать ради удовлетворения внешних материальных интересов.
Демократия превращает индивидуальную свободу в культ, однако она несвободна в той мере, в какой она требует участия каждого гражданина в политической жизни.
Аристотелю тоже досталось в этих дискуссиях. Можно вспомнить, с каким благоговением к нему относились Лян Цичао и другие интеллектуалы, оказавшие влияние на движение «Четвертое мая». В 1980-е годы Аристотель сохранял статус основоположника западной политической философии, сделавшего гражданство условием полноценного человеческого бытия. Хотя Аристотель уже не считался той путеводной звездой, какой он был в постцинский период, он все еще привлекал внимание ученых своим влиянием на Запад и своей новаторской философией. На закате «культурной революции» ученые с осторожностью относились к его взглядам, но к середине 1980-х годов У Шучэнь мог смело утверждать, что теория правового государства Аристотеля — это сияющая вершина западной политической и правовой мысли. В 1981 году Сюй Датун утверждал, что «Политика» Аристотеля задала курс политической науке на Западе, а в 1982 году Ван Цзюньлинь назвал античного философа достойным похвалы за то, что он считал республику самой правильной, устойчивой и победоносной системой правления.
Слава Аристотеля действительно померкла. Там, где раньше мыслители-реформаторы видели путеводные огни слова «демократия», им теперь мерещатся мрачные силуэты рабства и эксклюзионизма. Значительная часть критики направлена против сделанного в «Политике» утверждения Аристотеля о том, что рабство — это естественное состояние (пожалуй, это слишком грубый взгляд на сложность Аристотеля). На самом деле, справедливо говорят китайские ученые, рабство — это грязная изнанка процветающей демократии. Тот факт, что Аристотель называет негреков варварами, подчеркивается как пример ограниченности (что несколько странно, учитывая старую китайскую традицию считать варварами всех чужеземцев). Лю Чэньгуан (刘晨光, в настоящее время профессор Шанхайского педагогического университета) в одном из своих «Четырех трактатов о Греции» (Сила сы лунь, 希腊四论) утверждает, что Аристотель просто неактуален для китайскоязычного мира. Поскольку Аристотель размышлял об управлении в контексте конкретного времени и места, то не следует считать, что он говорит от имени разных культур и народов (даже если он упоминал разные конституции). Более того, если Аристотель старался оправдать институт рабства и считал негреческие культуры варварскими, то зачем вообще универсализировать его философию? Даже его пассажи об истинно добродетельном человеке весьма запутаны; Лю указывает на расхождения между «Этикой» и «Политикой» как на примеры того, что Аристотель был не таким уж великим философом. Он якобы демонстрировал ту же слабость, что и большинство представителей западной политической мысли: все они совершают фундаментальную ошибку шаблонного подхода, и эта западная слепота давно раздражает современных китайцев. Словом, Аристотель — непоследовательный, ограниченно мыслящий расист, и нет никаких причин читать труды этого уроженца Стагиры.