Апокалипсис горящего амбара
О ментальной клаустрофобии в романах Фолкнера
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Пол Джайлз. Глобальный пересмотр карты американской литературы. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2023. Перевод с английского Ольги Полей. Содержание
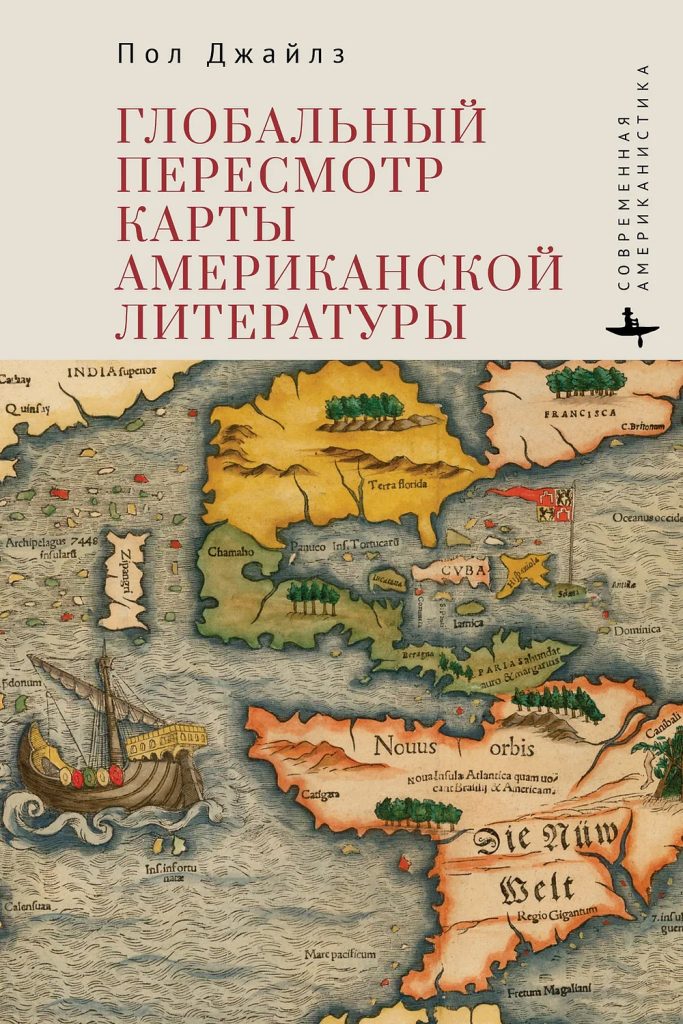 Уильям Фолкнер, которого Вернер Соллорс назвал «в конечном счете самым значительным американским писателем [XX] века», традиционно считался культовым южным писателем, поскольку самое пристальное внимание в своем творчестве он уделял вымышленной замкнутой территории — округу Йокнапатофа в штате Миссисипи, а также был страстно увлечен исследованием психологического и исторического наследия Гражданской войны. Однако совсем недавно были предприняты попытки интернационализировать Фолкнера, истолковав его тексты в более широком контексте. Так, мексиканский писатель Карлос Фуэнтес заявил, обращаясь к американской аудитории, что Фолкнер был «не только ваш, но и наш», так как его ключевая тема, «неотвязно маячащее перед глазами лицо поражения», была центральной как для Юга США по отношению к Северу, так и для Латинской Америки в отношении Северной Америки в целом. Колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес утверждал, что, поскольку округ Йокнапатофа расположен у «карибских берегов», Фолкнера следует рассматривать как «в некотором роде карибского писателя». Уроженец острова Мартиника Эдуар Глиссан видел в Фолкнере не просто локального летописца Миссисипи, но рассматривал его творчество в контексте всего мира плантаций, простирающегося «от северо-востока Бразилии до Карибского моря и юга Соединенных Штатов». Глиссан замечает, что такие места, как Гаити и гибридный мир Нового Орлеана, остаются в нарративе романа «Авессалом, Авессалом!» за кадром, однако именно они ставят под вопрос белое происхождение Томаса Сатпена и позволяют сопоставить географические странствия, «мысль о том, что есть родство, что передается и что наследуется», с тем, что в мире Фолкнера выглядит «трагической» утратой генеалогической чистоты.
Уильям Фолкнер, которого Вернер Соллорс назвал «в конечном счете самым значительным американским писателем [XX] века», традиционно считался культовым южным писателем, поскольку самое пристальное внимание в своем творчестве он уделял вымышленной замкнутой территории — округу Йокнапатофа в штате Миссисипи, а также был страстно увлечен исследованием психологического и исторического наследия Гражданской войны. Однако совсем недавно были предприняты попытки интернационализировать Фолкнера, истолковав его тексты в более широком контексте. Так, мексиканский писатель Карлос Фуэнтес заявил, обращаясь к американской аудитории, что Фолкнер был «не только ваш, но и наш», так как его ключевая тема, «неотвязно маячащее перед глазами лицо поражения», была центральной как для Юга США по отношению к Северу, так и для Латинской Америки в отношении Северной Америки в целом. Колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес утверждал, что, поскольку округ Йокнапатофа расположен у «карибских берегов», Фолкнера следует рассматривать как «в некотором роде карибского писателя». Уроженец острова Мартиника Эдуар Глиссан видел в Фолкнере не просто локального летописца Миссисипи, но рассматривал его творчество в контексте всего мира плантаций, простирающегося «от северо-востока Бразилии до Карибского моря и юга Соединенных Штатов». Глиссан замечает, что такие места, как Гаити и гибридный мир Нового Орлеана, остаются в нарративе романа «Авессалом, Авессалом!» за кадром, однако именно они ставят под вопрос белое происхождение Томаса Сатпена и позволяют сопоставить географические странствия, «мысль о том, что есть родство, что передается и что наследуется», с тем, что в мире Фолкнера выглядит «трагической» утратой генеалогической чистоты.
Хотя такие новые латиноамериканские прочтения Фолкнера могут помочь увидеть его тексты в неожиданном свете, Джон Смит и Дебора Кон, безусловно, правы в своем предположении, что прямолинейная ассимиляция Фолкнера Гарсиа Маркесом как «карибского» писателя представляет собой акт необоснованной апроприации, затушевывающий расовую специфику Юга США. Как отмечает Уолтер Бенн Майклз, «американский подход к расовой идентичности обычно сводился к тому, что одна капля черной крови делает человека черным», и это фактически разделило «американское население на две большие категории: черные и не черные». Этот подход, как мы видели из текстов Херстон и Бишоп, не относится к Гаити, Бразилии и другим латиноамериканским странам; однако для Фолкнера это ось, вокруг которой вращается вся его творческая вселенная. Томас Сатпен, герой романа «Авессалом, Авессалом!», вынужден цепляться за расовые различия, чтобы придать своей жизни смысл, и самому Фолкнеру приходится воспроизводить те же антиномии — черные против белых, Север против Юга — в своих нарративах, чтобы не нарушить их эпистемологическую связность. Таким образом, раса в мире Фолкнера неуклонно эссенциализируется, как в начале «Света в августе», где звучит безлично-обобщающее утверждение: «только негр поймет, спит мул или проснулся». Мысль показать в этом романе Джо Кристмаса или Томаса Сатпена, которые спокойно относятся к вопросам расовой гибридности, была бы столь же абсурдной, как заставить их переехать в Калифорнию и заняться серфингом: в условиях воображаемой вселенной Фолкнера сама природа ограниченной географической области зеркально отражает мучительную ментальную клаустрофобию персонажей. В этом смысле, как заметил Эрик Дж. Сандквист, столь тяжелая подача темы смешения рас в творчестве Фолкнера сама по себе замешана на белом расизме, который способен представить расовые различия лишь в терминах «разделенного дома».
Вот почему тексты Фолкнера изобилуют повторами, ходят вдоль и поперек по одной и той же местности, навязчиво фиксируя ее гомологии и повторяющиеся явления во времени и пространстве. Фолкнер никогда не был мастером разъяснять собственные эстетические приемы, и сила его текстов часто проистекает из того, что он воплощает эти сложно переплетающиеся свойства в исходном, необработанном виде. Это атавистическое знание местности, в котором Айк Маккаслин, герой «Медведя», не уступает «Старому Бену», «огромному старому медведю»: «Он назубок знал местность на двадцать пять миль вокруг лагеря — каждый затон и пригорок, каждое приметное дерево и каждую тропу, и смог бы, не плутая, доставить желающего на любое место и обратно в лагерь». Для Фолкнера Юг — не столько регион в политическом или культурном смысле, сколько почва или «территория», к которой инстинктивно относят себя его персонажи. Так, в «Непобежденных» упоминается «гряда облаков — голубая, смутно-тающая снизу и медно тронутая солнцем по верхам», о которой Ринго думает, что это Теннесси, и вновь расхождение между самим местом и его номиналистическим переописанием определяет тон этого рассказа. Врожденная способность ориентироваться в привычном окружении может рассматриваться как метафора мира Фолкнера в более общем смысле; инстинктивное знание местности становится здесь важнее абстрактных картографий «региона» и страхов перед социальными сдвигами. Это неизбежно вызывает у читателя ощущение своей чуждости этому миру. Джон Баррелл утверждал то же самое о Томасе Харди: он писал, что тот использовал тему местных знаний, чтобы не приблизить, а, напротив, отдалить читателя, не обладающего той привилегией эмпатии к описываемой местности, которой наделены вымышленные персонажи Харди, и поэтому всегда оказывающегося в позиции чужака. Но в случае Фолкнера эти исчезающие горизонты породили еще и критическое наследие, направленное на реконструкцию и воссоздание его утраченного мира: от аграрного обращения Клинта Брукса к фолкнеровскому «чувству принадлежности к живому сообществу» до попыток Ричарда Годдена истолковать идею округа Йокнапатофа путем анализа того, как социальные и экономические изменения на Юге, в частности, сложные трудовые отношения, отражали «долгую революцию» национальной политики США в межвоенные годы. «Фолкнер упорно не желает выходить за границы замкнутого пространства», — писал Глиссант, и такие критики, как Брукс и Годден, поддерживают эту дискурсивную матрицу «замкнутого пространства», настаивая на том, чтобы рассматривать фолкнеровское художественное описание Миссисипи как модель социального организма.
Однако великим писателем Фолкнера делает именно то, что антиномии, застывшие в его пейзажах, растворяются в тот же момент, как он их создает. Как блестяще сформулировал Андре Блейкастен,
...оксюморон, сочетание несочетаемого, как мы знаем, — один из любимых оборотов речи Фолкнера, а парадокс и ирония — его любимые способы мышления. Дело, однако, в том, что, вопреки убеждению Новой критики, не существует никакого объединяющего принципа, под который их можно было бы подвести. Парадоксы у Фолкнера упорно остаются парадоксами: развеиваться в финале законченного текста они не желают.
Персонажи Фолкнера способны говорить о себе и о других только в терминах самоуничтожения, самоистязания — как Квентин Компсон в финале романа «Авессалом, Авессалом!», пытающийся передать свое отношение к Югу:
— С чего ты взял, что я его ненавижу? — быстро, поспешно, мгновенно отозвался Квентин. — Это неправда, — сказал он. «Это неправда, — думал он, — задыхаясь в холодном воздухе, в суровом мраке Новой Англии. — Неправда! Неправда! Это неправда, что я его ненавижу! Неправда! Неправда! Неправда!»
Воображение Фолкнера вдохновляется прежде всего выворачиванием наизнанку общепринятых понятий: когда чопорная белая женщина испытывает сексуальное влечение к «негру», когда побежденные на самом деле оказываются «непобежденными». Эта же манера редупликации — источник готического стиля Фолкнера и его черного юмора, где половые и расовые идентичности мучительным, саморазрушающим образом перемешиваются. Структурный парадокс произведений Фолкнера заключается в том, что, хотя для придания его нарративам какой-то эпистемологической связности необходимо сжатое и ограниченное пространство, текстуально такое пространство всегда предстает саморастворяющимся. Тенденция исследователей материализовать и монументализировать Фолкнера, воспринимать округ Йокнапатофа как реальное место, как правило, заставляет их упускать из виду то, что проницательно отметил Глиссан — что творчество Фолкнера строится на идее «рухнувшего фундамента», радикальной «„невозможности“ создания какой-то территориальной основы».
Фолкнер — писатель блестящий и никого не оставляющий равнодушным, однако его гений рисует нам в высшей степени идиосинкратическую версию американского Юга под исторически специфичной эгидой модернизма, и было бы ошибкой смешивать это с более широкими описаниями региональной идентичности. В произведениях Ричарда Форда (родившегося в Джексоне, штат Миссисипи, в 1944 году) часто просматриваются скрытые интертекстуальные связи с Фолкнером: например, фамилия Фрэнка Баскомба, вымышленного главного героя трилогии «Спортивный журналист», перекликается с девичьей фамилией матери Квентина Компсона, а день рождения сына Фрэнка Ральфа из «Спортивного обозревателя» приходится на тот же день, что и день рождения Бенджи из «Шума и ярости». Критика Фолкнера со стороны Форда акцентирует его стремление демистифицировать готические топологии, ставшие привычными в южных романах начала XX века, а также его более постмодернистское понимание «Юга» как «уже не географического места», а скорее некоего «Пояса, делового предложения». Сознательная полемика с Фолкнером играет заметную роль и в творчестве Фредерика Бартелма: в «Ночах Элроя», где соседа, жалующегося на мусор в многоквартирном доме, пренебрежительно называют «мистер Сойди, Моисей», и в «Братьях», где квазикровосмесительная интрижка Дела с женой его брата Бада Маргарет пародирует семейные саги Фолкнера, представляя их в комическом виде, когда кровавая вендетта оказывается стилизацией. В «Братьях» появляется также виньетка, шутливо десублимирующая фолкнеровскую эстетику: Дел и Джен отправляются в «Федеральный арахисово-фруктовый амбар» Полли, и им показывают «маленький домик», который Полли купила в Веро-Бич. Когда Полли щелкает выключателем, взбитые сливки вспыхивают пламенем, а из выставочного дома доносятся «еле слышные вопли». Это напоминает пародию на фолкнеровскую риторику об апокалипсисе и горящем амбаре.