Американские горки русского двора
Фрагмент книги «Историк у источника: политическая история XVIII века в документах и комментариях»
Историк Евгений Анисимов, специалист по петровскому периоду и эпохе дворцовых переворотов, выпустил книгу, куда вошли его публикации, посвященные наиболее острым моментам русской истории. Предлагаем ознакомиться с отрывком из нее, из которого видно, насколько непрочно было положение всех, даже самых доверенных лиц, окружавших русский престол при Петре I.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Евгений Анисимов. Историк у источника: политическая история XVIII века в документах и комментариях. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. Содержание
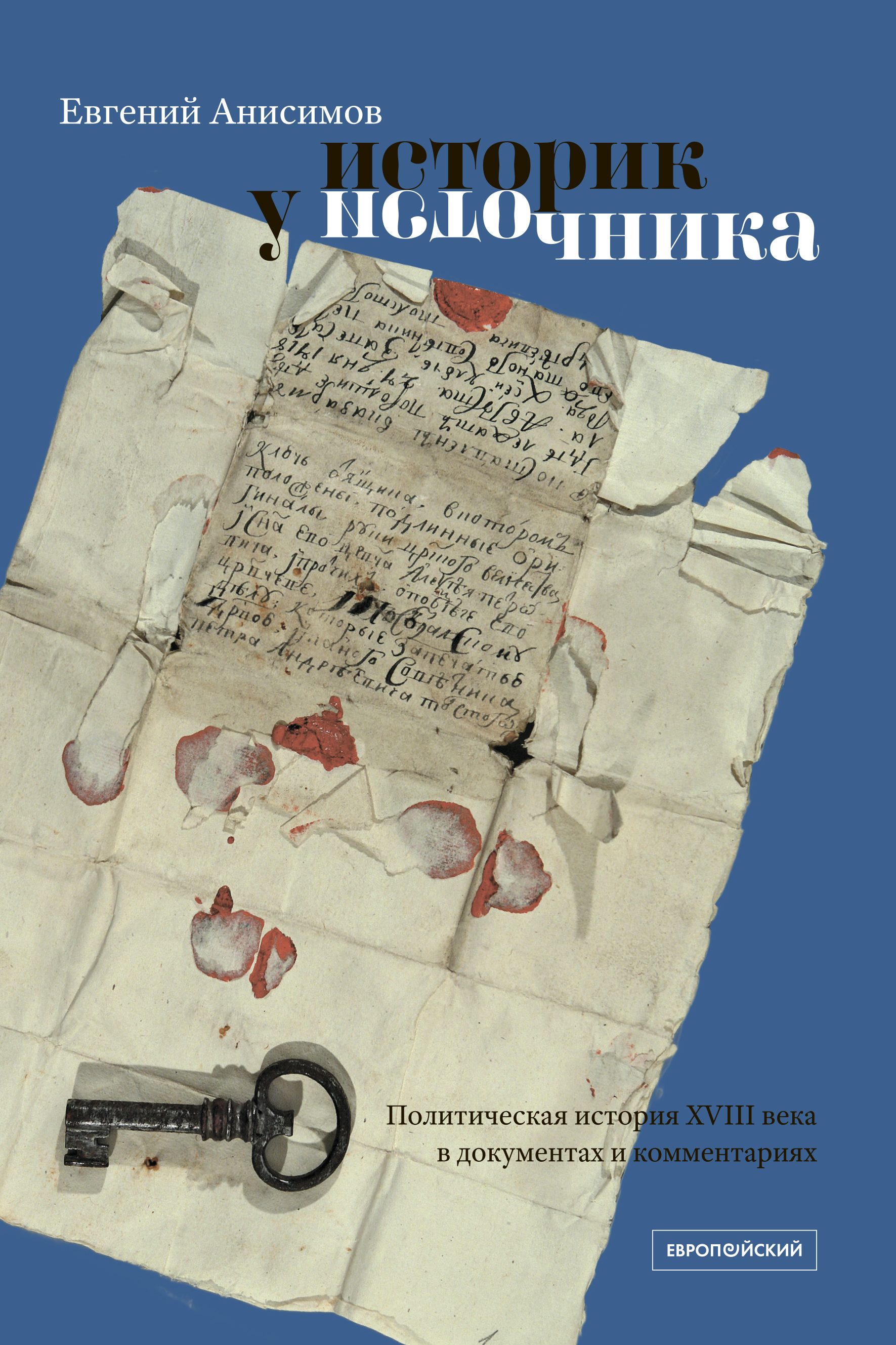
Князь Василий Владимирович Долгоруков был одним из ближайших сподвижников Петра I. Правда, он, представитель древнейшего рода, выдвинулся на военном и государственном поприщах не сразу, получив первый офицерский чин в Преображенском полку только в 1700 году, когда ему было уже 33 года. Возможно, что столь позднее начало карьеры князя Василия связано с тем, что князья Долгоруковы не были близки к семье Петра I — Нарышкиным, а отец князя Василия, боярин князь Владимир Дмитриевич, доводился племянником царице Марии Ильиничне, происходившей из рода Милославских — заклятых врагов Нарышкиных. Но, видимо, князь Василий (так его чаще всего называли современники) — храбрый воин с задатками полководца — сумел преодолеть предубежденность Петра, и с началом Северной войны его карьера пошла в гору: в 1706 году он — майор гвардии, в 1708-м — подполковник. В том же 1708 году он быстро и жестоко подавил восстание Кондратия Булавина, совершая это не без мести за убитого булавинцами в начале мятежа старшего брата князя Юрия. На следующий год стал одним из героев Полтавского сражения, а в 1710 году успешно брал Выборг. В 1711-м он — уже генерал-лейтенант и кавалер ордена Андрея Первозванного. Но важнее ордена было другое: примерно с этого времени Петр приближает к себе князя Василия, человека толкового, умного, исполнительного. Он даже становится любимцем царя, потеснив бессменного фаворита государя А. Д. Меншикова, что обостряет их соперничество за милость государя. Играя на этом соперничестве (естественно, «ради польз государственных»), царь в 1714 году делает князя Василия начальником Розыскной канцелярии по расследованию должностных преступлений, а попросту жульничества высших чиновников с подрядами продовольствия для армии. А главным фигурантом этого вызвавшего особый гнев Петра дела являлся как раз Меншиков. Князь Долгоруков, как неумолимая Эриния, преследовал светлейшего, не идя с ним на компромиссы, и потому стал его смертельным врагом. В родовой памяти семьи князей Долгоруковых сохранилась легенда о том, как В. Вл. Долгоруков однажды читал Петру в знаменитой токарне царя выписки из следственного дела о злоупотреблениях А. Д. Меншикова, и тут светлейший, который подслушивал под дверью, внезапно ввалился в токарню и, стоя на коленях, в слезах умолял государя его выслушать и простить. Петр якобы приказал кн. Долгорукову выйти из комнаты, а на следующий день наказал фаворита только штрафом. Легенда эта кажется весьма правдоподобной: такие сцены фиксируют разные источники, сохранились и резолюции на докладе кн. В. Вл. Долгорукова касательно взыскания с А. Д. Меншикова присвоенных им казенных денег. Речь шла о начете на Меншикова фантастической по тем временам суммы в 1,2 млн рублей (при расходе на армию и флот в 5 млн).
По характеру князь Василий Владимирович был человеком прямолинейным, грубоватым, несдержанным. Его личность весьма ярко характеризуют события 19 января 1730 года, когда сразу после смерти Петра II клан князей Долгоруковых в Лефортовском дворце обсуждал вопрос, кого выбрать на престол вместо умершего юноши-царя. Родственники обрученной невесты покойного царя, княжны Екатерины Долгоруковой, предлагали провозгласить ее императрицей, изготовив подложное завещание покойного императора и расписавшись вместо него. Вся авантюра была разрушена князем Василием, которого его родные срочно вызвали на совещание, рассчитывая, что он, фельдмаршал и командир Преображенского полка, выведет преображенцев из казарм и тем самым обеспечит вступление княжны Екатерины на престол. Князь Василий, услышав это, разгневался и, как явствует из записи в следственном деле 1739 года, громогласно осадил размечтавшихся родственников:
«Что вы, ребячье, врете! Как тому может сделаться? Как ему, князь Василью, полку объявить, что, услыша-де от него об оном объявлении, не токмо будут его, князь Василья, бранить, но и убьют, понеже неслыханное в свете дело вы затеваете, чтоб обрученной невесте быть российскаго престола наследнице?»
После этого он удалился из покоя, показав тем самым, что гвардия под его командой такую авантюру не поддержит, и таким образом разрушил замысел рвавшегося к власти клана Долгоруковых. В петровское же время В. Вл. Долгоруков выполнял важные поручения царя, а командуя преображенцами, без которых Петр, особенно за границей, старался не передвигаться, фактически был телохранителем царя и одновременно первым докладчиком по многим делам. В 1715 году начался драматический конфликт Петра и царевича Алексея, в который силой обстоятельств был втянут князь Василий и из-за которого он пострадал. Заметим сразу, что князь не был конфидентом царевича. Наоборот, в кругу Алексея на него смотрели как на недруга, зная его верную и ревностную службу царю. Особенно не любил Долгорукова приятель царевича А. В. Кикин. Когда в феврале 1718 года, уже после возвращения царевича в Россию и дачи им первых показаний на следствии, начались аресты причастных к побегу царевича людей, А. Д. Меншиков писал Петру, что в момент ареста А. В. Кикин первым делом спросил светлейшего: «Князь Василий Долгорукий взят ли?» Когда Меншиков ответил, что не взят, то Кикин сказал: «Нас истяжут, а Долгоруких царевич, ради фамилии пожалея, закрыл…» Далее Меншиков написал: «Мы его спрашивали: в какой образ он говорил? Молчит и не объясняет».
Зная обстоятельства дела царевича, мы можем объяснить молчание Кикина. Дело в том, что, когда царевич осенью 1716 года по жесткому требованию Петра из Копенгагена (там царь готовил десантную операцию на побережье собственно Швеции), выехал из России, он уже заранее решил бежать. Доехав до Либавы в начале октября 1716 года, царевич встретился там с Кикиным, который возвращался из Вены, где готовил царевичу убежище. Посовещавшись, они задумали подставить под удар князя В. Вл. Долгорукова. Чем им так не угодил князь Василий? Кикин говорил царевичу, что вызов в Данию с возможной целью «истомить» его и, возможно, подставить неугодного царского сына под шведские пули, задуман именно Долгоруковым. Вот как Кикин объяснял наследнику замысел князя, якобы внушенный им Петру:
«…чтоб тебя при себе держать неотступно и с собою возить всюды, чтоб ты от волокиты умер, понеже-де ты труда не понесешь. И разсуждал ему князь Василий, что-де в черничестве ему (царевичу. — Е. А.) покой будет и может-де он долго жить. И по сему слову, я дивлюсь, что давно тебя не взяли и ныне-де тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастися ничем иным нельзя».
По наущению Кикина (этого злого гения наследника) царевич написал два письма: одно — на имя князя В. Вл. Долгорукова, другое — на имя своего камердинера Ивана Большого Афанасьева, и оба письма якобы по ошибке положил в конверт, адресованный А. Д. Меншикову.
Конверт должен был отправить позже из Риги родственник Кикина — студент Константин Баклановский. В письме Афанасьеву царевич сообщал, что, приехав в Ригу, он якобы внезапно решил бежать из России. Это должно было обеспечить алиби близкому царевичу камердинеру, будто бы ничего не знавшему о замыслах своего господина. Тем самым Афанасьев выводился из-под удара. Письмо же кн. В. Вл. Долгорукову ставило совсем иную цель: благодаря князя за все его благодеяния, царевич обещал тому: «…при моем случае должен отслужить вам». Так на князя Василия наводили тень подозрения в содействии побегу, ведь иным, кроме восшествия беглеца на престол, «случай» быть не мог, следовательно, «благодеяние» князя состояло в пособничестве побегу царевича. Конверт же с адресом Меншикова должен был обеспечить доставку писем прямо в руки царю, что и произошло. Позже, в 1718 году, оказавшись уже в Москве, под арестом, царевич в своих показаниях продолжал чернить князя Василия тем, что упоминал эпизоды, которые к делу о побеге прямо не относились, но порочили князя. В показаниях царевича зафиксирован его рассказ про князя В. Вл. Долгорукова, в 1712 году находившегося под осажденной союзниками шведской крепостью Штеттин: «…едучи верхом с царевичем, говорил, что кабы-де не государев жестокий нрав, да не царица, нам бы-де жить нельзя, я бы-де в Штетин первый изменил», то есть перебежал бы к врагу. Речь, таким образом, шла о подозрении в подготовке государственной измены (напомним, что тогда еще была в разгаре война со шведами). И естественно, что по этим показаниям следователями был составлен убийственный для служаки Долгорукова вопрос: «Такие слова говорил ли и для чего и давно ль о том у тебя дума и с кем о том советовал?»
На этот типичный для сыска вопрос ответ обычно давался под пыткой, и дыба явственно замаячила перед Долгоруковым. А между тем, зная многое о характере Петра — жестокого, подозрительного, порой необузданного в гневе, — и, напротив, ведая о доброте и мягкости его жены, можно поверить в правдивость слов, переданных царевичем: многие в окружении царя от его выходок пребывали в постоянном страхе, но при этом многих спасало умиротворяющее влияние на него царицы Екатерины.
Словом, подводя итог вышесказанному, спрашивается, зачем князь Долгоруков общался с царевичем и его приближенными, если они его так ненавидели? Очевидно, этого общения было невозможно избежать, более того, оно даже было необходимо князю. Принадлежа к числу ближайших сподвижников государя, князь Василий, при всей его солдатской прямолинейности, был царедворцем, искателем милостей — таков удел всех, кто окружал монарха. Обстановка, сложившаяся при дворе, вынуждала В. Вл. Долгорукова погрузиться в мир придворных интриг, искать свой способ выживания. Как известно, в октябре 1715 года Петр серьезно заболел. Болезнь эта вызывала большие опасения как в царской семье, так и среди сподвижников, которые зачастили во дворец к ложу, как казалось, умирающего царя. По городу поползли слухи, что государь долго не протянет. Было известно, что 20 октября Петра, желавшего проститься со своей снохой, кронпринцессой Шарлоттой, которая умирала от родильной горячки, несли в кресле или в кресле-каталке. Сам царь, серьезно обеспокоенный своим здоровьем, решил вплотную заняться проблемой престолонаследия, точнее отстранить от наследования трона нелюбимого сына Алексея. Решимость ему придало рождение кронпринцессой Шарлоттой 12 октября 1715 года мальчика — царевича Петра Алексеевича, прямого наследника царевича Алексея, что упрочило старшую линию наследования престола. Именно тогда и началось дело с известными письмами Петра к сыну, которые содержали требования отказаться от престолонаследия и уйти в монастырь. Первое письмо (оно в материалах так и называется: «первое») царь передал сыну, не церемонясь, прямо на похоронах кронпринцессы Шарлотты 27 октября 1715 года. Царевич Алексей ответил отцу 31 октября. По стечению обстоятельств накануне, 29 октября, у царицы Екатерины тоже родился сын, царевич Петр Петрович. Словом, узел семейно-государственной драмы затянулся еще туже. Во всей этой истории с перепиской и был замешан кн. В. Вл. Долгоруков, впрочем, как и множество других людей. Все они, близкие ко двору, с немалой тревогой думали о своем будущем и тайком между собой обсуждали то, что сейчас называют транзитом власти. В компаниях вспоминали порядок наследования в Англии, Пруссии, а потом, говоря о России, сходились на проверенной временем формуле: «У нас Он волен, что хочет, то и делает, у нас не их нравы». Придворные не забывали, что гонимый царевич — все еще единственный официальный наследник престола, который, как только умрет Петр, придет к власти. Высшие сановники, стремясь «подстелить соломки», выражали Алексею свои симпатии, но делали это украдкой, опасаясь прогневить подозрительного государя, бескомпромиссно настроенного против своего старшего сына. Позже на допросах царевич признавался, что один из влиятельных сенаторов, князь Я. Ф. Долгоруков, после краткой беседы с ним на людях, сказал ему на ухо, чтобы царевич с ним не разговаривал и к нему не ездил, ибо «…за мною смотрят».
Этот эпизод выразительно передает общую нервозность обстановки при дворе. Между тем царевич, человек слабый и несамостоятельный, стремился найти поддержку, искал совета, как ему поступать, что ответить отцу на его жесткие требования. За советом он обращался не только к своему ближнему кругу, но и к влиятельным приближенным царя: к упомянутому князю Я. Ф. Долгорукову, генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину, а также князю Василию, учитывая его особую близость к царю. Царевич приехал к князю не только за советом, как ему писать ответ царю, он также хотел, чтобы князь Василий замолвил за него словечко перед отцом. Готовый отказаться от наследования престола, Алексей ни за что не желал уходить в монастырь и просил через Долгорукова царской милости — ссылки в деревню, что в те времена было принято как мягкая форма опалы. Можно предположить, что тут-то князь Василий, думая о будущем, и затеял свою игру, стремясь и доверие Петра сохранить, и расположения наследника не потерять. Когда зашла речь о письменном ответе царевича на ультиматум отца, князь Василий успокоил Алексея словами, воспринятыми позже, на следствии, как преступные:
«Давай-де писем хоть тысячю, еще-де когда будет, старая-де пословица: улита едет, коли-то будет. Это-де не запись с неустойкою, как мы прежде сего меж себя давывали».
Тем самым князь ни во что не ставил письменный отказ царевича от наследования престола, уничижительно сравнив его с обязательными к уплате долговыми записями, неисполнение которых вело к неустойкам. Между прочим, так думали многие: ни подписанная бумажка, ни даже клобук не закрыли бы Алексею, законному сыну царя, путь к трону. Думаю, что в конечном счете прежде всего понимал это сам Петр, что и обрекало Алексея на неизбежную смерть. После отъезда царевича князь Долгоруков «того ж часа» отправился к царю и доложил ему о визите наследника, но при этом всех подробностей своего разговора с царевичем, естественно, не сообщил. Петр, крайне заинтересованный в отказе сына от престолонаследия, послал Долгорукова к царевичу снова, с тем чтобы «того письма, что он, царевич, написал, посмотреть». Князь Василий поручение выполнил, содержание письма узнал, да еще присоветовал царевичу дополнить послание упоминанием о младенце царевиче Петре Петровиче как о более надежном, чем он сам, наследнике, а потом вернулся с докладом к Петру. Спустя несколько дней после подачи этого ответного письма царю князь Василий вновь приехал к царевичу, по-видимому уже по своей воле. В разговоре с ним князь сообщил, что царь ответом сына доволен, и тут же потребовал от Алексея «приказом государевым», чтобы он письмо «ево, государево, показал» ему, Долгорукову. Наверняка Петр не давал указа Долгорукову прочитать его письмо от 11 октября, но, видно, князя Василия разбирало любопытство, как и многих других в то время. Так, на следствии царевич показал, что после того, как у гроба его жены Шарлотты царь передал свое письмо-ультиматум сыну, князь Ю. Ю. Трубецкой спросил его:
«Какое-де отец твой тебе письмо дал при мне, печальное или радостное? И я ему сказал, что в письме в твоем и в моем ответе написано».
Но все-таки чтение царева письма не было главной целью визита князя Василия к царевичу Алексею. В разговоре с ним Долгоруков дал понять собеседнику, что именно он, князь Долгоруков, является его спасителем: «Я-де тебя у отца с плахи снял и теперь-де радуйся…» Позже, 8 марта 1718 года, уже на следствии, когда зашла речь об этой фразе, князь Василий не отрицал разговора о плахе, но утверждал, что не он, а сам царевич ее упоминал: «Я всегда-де как на плахе и он-де, князь Василей, говорил ему, когда-де писмо дашь, то-де и плахи отбудешь». Но, отвечая таким образом, Долгоруков не предусмотрел, что разговор этот состоялся уже после отсылки письма царевича. Стало быть, царевич прав: князь Василий намеренно и с расчетом приписывал себе заслугу «спасения» Алексея. На следствии для князя Василия не менее трудным оказался и ответ на другой пункт, составленный на основе показаний А. В. Кикина. Тот утверждал, что князь Долгоруков говорил прилюдно: «Ежели в чем может царевичю впредь служить, то он рад хотя бы живот свой за него положить» [Документ № 5]. И в этом случае князь Василий признался, что эпизод этот был, но интерпретировал его по-своему и опять неудачно:
«…как Царское величество был болен тяжко, в то время того ради ему, царевичю, служить или бево почитать впредь мне не для чего, понеже я взыскан и пожалован чином и обогащен Его царского величества милостию».
Но и этой интерпретации поверить нельзя — как раз тяжкая болезнь Петра и заставляла князя, как и других придворных, «почитать впредь» царевича и надеяться на лучшее будущее при его воцарении. Словом, факты свидетельствуют, что, служа царю, князь Василий стремился обеспечить себе будущее при возможном новом государе и для этого вступил с ним в контакт. Но все эти его расчеты были разом опрокинуты после того, как привезенный из-за границы в Москву в январе 1718 года царевич начал давать пространные показания.
Известно, что люди по-разному вели себя в политическом сыске: одни мужественно, другие трусливо. Царевич Алексей избрал тот вариант поведения, при котором во имя собственного спасения он стал рассказывать на следствии обо всех подряд — ближних и дальних, дававших ему советы или обмолвившихся с ним только парой слов. Он, демонстрируя отличную память, вспоминал подробности разговоров трех-четырехлетней давности, отдельные фразы и слова множества людей и все это подробно излагал на бумаге. При этом пытки, которыми можно было бы оправдать его, в тот момент к царевичу не применяли. Они пошли в ход лишь на последнем этапе следствия и только для того, чтобы подтвердить его добровольные показания и признание вины. Таков был принцип сыскного процесса: полагалось «из подлинного» подтвердить кровью сказанное ранее. Эти показания и стали основой для указов об аресте множества людей, которых тотчас одного за другим начали хватать и сажать в колодничьи палаты, допрашивать и пытать. Можно с уверенностью сказать, что весь огромный и кровавый процесс стал возможен исключительно благодаря показаниям струсившего царевича.
В этот страшный конвейер в числе нескольких десятков человек попал и князь Василий. Уже после первых показаний царевича измена ближнего человека, каким был до этого для царя князь Василий, стала царю очевидна, и 16 февраля в Петербург был послан указ об аресте Долгорукова. Исполнить волю государя взялся лично сам А. Д. Меншиков: упустить такую возможность поквитаться со своим давним гонителем светлейший не мог.
Князь Василий был закован в кандалы и отвезен в Москву, отчего, как сам признавался на допросе, был в «десперации и беспамятстве». Видно, действительно, этот воин, смело встречавший смерть в бою, в подвалах страшного Преображенского приказа дрогнул — ответы его на вопросы следователям были неубедительны, в очных ставках царевич его уличал. Словом, дело шло к пыткам. Но тут неожиданно к Долгорукову пришла помощь: за князя Василия и арестованного по тому же делу его брата, кн. М. В. Долгорукова, вступился их родственник, уважаемый царем и влиятельный князь Я. Ф. Долгоруков. Он написал Петру отчаянную по форме челобитную по поводу «сродников… впавших в некоторое погрешение», но которые виноваты, как писал челобитчик, лишь в «дерзновенном состоянии и слабости необузданного языка, который иногда с разумом не согласуется».
Это прямо сказано о нашем герое, учитывая его темперамент и несдержанность в речах. Возможно, что послание влиятельного главы клана сыграло свою роль — Петр не хотел казнью Василия Владимировича ожесточать родовитую знать. За схожие «дерзновенные слова» другие участники дела были казнены, а князь В. Вл. Долгоруков по приговору 14 марта 1718 года отделался лишь лишением чинов, снятием с него ордена Андрея Первозванного, конфискацией имущества и ссылкой даже не в Сибирь, а всего лишь в Соликамск. Немаловажно и то, что в приговоре по его делу было сказано:
«…царевич сам показал, что князь Василий к побегу его совета никакого с ним не имел. Он же, царевич, по мысли Кикина, написав х князь Василью письмо и отдал Кикину в такое намерение: ежели б на него, Кикина, в побеге было подозрение, чтоб то подозрение привесть на него, князь Василья, как о том в царевиче повинном, и в Кикине с розыску и в роспросе показано явно».
Это означало, что с князя Василия было снято самое страшное обвинение — в пособничестве к побегу, что считалось однозначно государственной изменой. Иначе бы никакие челобитные родни его не спасли. Впрочем, после приговора князь Василий, уже перевезенный в Петербург, протомился в колодничьей казарме Петербургской крепости еще четыре месяца: царевич упорствовал в своих показаниях против князя, и им устроили очную ставку 21 июня, то есть за пять дней до смерти (скорее всего, казни) царевича. Перед князем вновь замаячил застенок, как уже сказано, пыточный навет надлежало смывать кровью. И тогда он дал, возможно что по совету доброжелателей, «повинные показания», в которых довольно неуклюже пытался оправдаться, писал, что на допросе у царя был в волнении и страхе и не смог сказать нужных слов себе в оправдание, но все же повинился и отчасти признал свою вину в «дерзновенных словах». Петр прошением князя Василия был удовлетворен и 5 июля 1718 года указал отправить арестанта в Соликамск. Неизвестно, последовала ли в ссылку супруга, княгиня Анна Петровна (урожденная Шереметева). В последний момент из шкафа выпал еще один скелет — выяснилось, что князь Василий содержал любовницу, бывшую уже на сносях и в момент ссылки князя возопившую о вспомоществовании. Можно предположить, что о смягчении наказания князю Василию хлопотала царица Екатерина — согласно легенде, она послала ссыльному в дорогу крупную сумму денег. Не кажется случайным и то, что князь Долгоруков был помилован в дни коронации Екатерины в Москве в мае 1724 года.
Но прощение могло бы состояться и раньше: летом 1722 года пошел слух о намерении Петра помиловать князя Василия. Это, как писал прусский посланник Г. Мардефельд, «было бы очень неприятно» для многих, особенно для А. Д. Меншикова. Думается, что светлейший и воспрепятствовал тогда помилованию, чего уже не мог сделать в мае 1724 года. Летом этого года Долгоруков вернулся из ссылки в Петербург и 19 июля поспешил в Адмиралтейство на спуск корабля «Св. Рафаил», на борту которого государь официально простил князя и вернул ему шпагу. Постепенно Долгоруков начал восстанавливать свою карьеру: в декабре 1724 года вымолил у царя чин полковника. Но вскоре все надежды князя Василия опять рухнули: 28 января 1725 года умер Петр I, на престол вступила Екатерина I, а реальная власть оказалась в руках А. Д. Меншикова, который отправил князя Василия командовать Низовым корпусом в Персию — гиблое место для тысяч русских солдат и офицеров, да и для карьеры, а также здоровья князя Долгорукова.
В мае 1727 года — новый резкий поворот судьбы: неожиданно умерла Екатерина, а к власти пришел сын несчастного царевича Алексея, император Петр II. Меншиков был свергнут и сослан в Сибирь. Настало время клана князей Долгоруковых — они сгрудились у трона юного царя, обрученного с княжной Екатериной Долгорукой, сердечно привязанного к своему фавориту, брату невесты князю Ивану Долгорукову. Долгоруковы принялись делить власть и делали это, как сказано выше, не особенно умно. Возвращенный из Персии князь Василий, минуя ряд чинов, 28 февраля 1728 года сразу получил фельдмаршальский жезл и во второй раз орден Андрея Первозванного, а также сел в кресло члена Верховного тайного совета. Однако тогда никто не мог предвидеть, какие еще «американские горки» ждут князя Василия: через три года, в 1731 году, уже при императрице Анне Иоанновне, он был разжалован, во второй раз лишен ордена Андрея Первозванного, а также всех чинов. И вновь его подвели прямолинейность и длинный язык. Манифест 23 декабря 1731 года об опале князя Василия не скрывает возмущения императрицы по этому поводу: оказывается, князь
«…дерзнул не токмо… полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять».
Видно, что жаргон старого солдата был таким жестким, что его приговорили к смерти, но Анна Иоанновна все же заменила смертный приговор заключением в Шлиссельбург навечно. В 1737 года князю Василию стало еще хуже — его отвезли в Иван-город и заточили в крепостном каземате, откуда его только через пять лет, «аки Лазаря», извлекла пришедшая к власти в ноябре 1741 году Елизавета Петровна, доводившаяся князю Василию крестницей. И снова наш герой — наверху «горки»: во второй раз фельдмаршал, в третий (!) раз кавалер ордена Андрея Первозванного, а еще сенатор, президент Военной коллегии. В таком счастливом состоянии 11 февраля 1746 года бравого воина и настигла смерть.