Алхимики фармы
Из истории российского рынка лекарств
В 1990-х предприниматели открыли золотую жилу: оказалось, что на российский рынок вовсе не обязательно поставлять действительно необходимые людям лекарства, чтобы заработать миллиарды, — надо лишь знать, кого подкупить, а кого обмануть. О масштабах коррупции в мире русской фармы читайте в отрывке из новой книги Сергея Затравкина, Елены Вишленковой и Фёдора Генина.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Сергей Затравкин, Елена Вишленкова, Федор Генин. Своя игра: история фармрынка в России. М.: ШИКО, 2025. Содержание
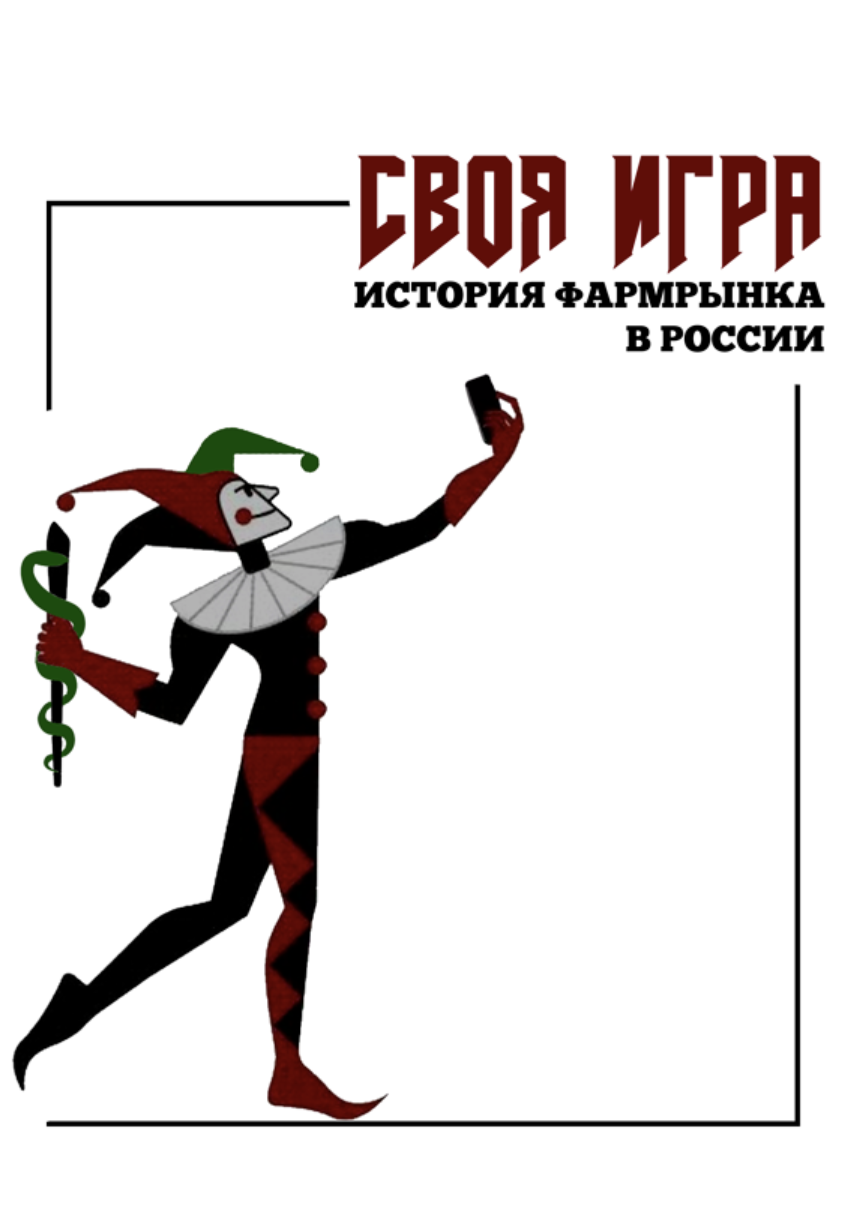
Молодые российские предприниматели приходили на фармрынок за прибылью, и никто этого тогда не скрывал и даже не камуфлировал. Одновременно с ними зарабатывать на лекарствах хотели оставшиеся на минимальном государственном содержании провизоры, а также служащие многочисленных аналитических лабораторий и даже чиновники московских и региональных министерств. Всем тогда было голодно, и в условиях смутного времени у всех были соблазны. Как ими распорядиться и как далеко зайти — было решением персональным.
Российский рынок лекарств предоставлял предприимчивым людям разнообразные способы обретения быстрого финансового благополучия. Часть этих способов и путей были универсальными для отраслевых рынков. Например, «налоговая оптимизация», подразумевавшая утаивание доходов от налогового обложения, осуществлявшаяся посредством так называемого обналичивания средств или перевода кассовой выручки в «черный нал». Кажется, этим пользовались все предприниматели независимо от рода деятельности.
Но наряду с общими на фармрынке были особые секреты мастерства. Они делали их обладателей практически алхимиками, легко превращавшими камни в золото. С каждым годом фокусников на фармрынке становилось больше и больше. Пропорционально этому рос объем полулегального капитала. К рубежу третьего тысячелетия первый заместитель министра — начальник Следственного комитета при МВД России Н. Г. Соловьева — доложила заместителю Председателя Правительства РФ В. И. Матвиенко: «Уровень экономической преступности в здравоохранении превысил ее количественные показатели в таких отраслях экономики, как металлургия, лесная и деревообрабатывающая промышленность, связь». Большая часть таких преступлений приходилась на лекарства.
Не имея намерения создать учебное пособие для будущего махинатора на фармрынке, мы опишем только те практики, которые драматично повлияли на обеспечение россиян: либо сократив бюджет на закупку лекарств, либо увеличив цены на них. Естественно, мы анализируем только те кейсы, которые попали в поле зрения контрольных органов, а следовательно, были задокументированы и хранятся в анналах государственного делопроизводства. Судя по протоколам заседаний министерских комиссий, российские фармпроизводители занимались отмыванием денежных средств при проведении внешнеторговых операций. «Наиболее распространенная схема, лежащая в основе махинаций при проведении денежных зачетов по импортным контрактам, — объяснял заместитель министра здравоохранения А. В. Катлинский сотрудникам Минэкономики, — базируется на необоснованном превышении закупочной цены на импортируемые субстанции для производства лекарственных средств». Общий объем выведенных таким способом средств только за один год и только по результатам проверок 10% сделок был оценен в 10 млн долларов.
Другие претензии к производителям (сформулированы Министерством и Счетной палатой) касались цен на лекарственную продукцию. Заводы и комбинаты постоянно поднимали стоимость своей продукции. Раздражение Правительства усилилось после введения в 1999–2001 годах государственного регулирования цен на ЖНВЛС. Это изобретение должно было наконец остановить рост цен на важнейшие лекарства. Но бизнес был адаптивным и изобретательным. Чиновники ловили производителей на том, что они регистрировали априорно завышенные цены, «не отражавшие уровня фактических затрат», или проводили «многократную государственную регистрацию одного и того же лекарственного средства под одним или различными названиями» для фиксации более высокой цены. Разоблачения никого не остановили, но побудили усовершенствовать механизм обмана. В результате ловить виновных становилось все сложнее.
Зарубежным производителям вменялось в вину коррумпирование российских чиновников, опинион-лидеров и врачей. Тут обвинителем выступало уже не государство российское. О масштабах и особенностях фармкоррупции позволяют судить опубликованные в 2012 году материалы расследований, проведенных Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении российских «дочек» компаний Pfizer и Eli Lilly.
Американские проверяющие узнали, что за десятилетие (1997–2006) компания Pharmacia (Pfizer Russia, ЗАО «Пфайзер») потратила на подкупы в России, Болгарии, Хорватии и Казахстане более 2 млн долларов. Запрещенная в США тактика принесла транснациональной компании более 7 млн долларов чистой прибыли. Как выяснилось, головная квартира была осведомлена о действиях подчиненных, выделяла им средства на оплату услуг по «включению препаратов компании» в список льготных лекарств, различные формулярные перечни и официально утверждавшиеся рекомендации по методикам лечения отдельных заболеваний, по «закупке лекарств регионом», давала премии за «победы в государственных тендерах». Благодаря коррупции Большая фарма узурпировала государственные функции по распределению российского бюджета.
Среди получателей взяток фигурировали отечественные чиновники региональных минздравов (департаментов здравоохранения), руководители лечебных учреждений, влиятельные врачи, профессора. Иногда поощрения выдавались денежными конвертами через подставные фирмы. Но чаще всего использовался метод услуг: компания отправляла агентов влияния в так называемые «мотивационные путешествия» на фешенебельные курорты или организовывала и оплачивала им участие в научных мероприятиях в европейских столицах. В официальной отчетности расходы списывались на туризм и развлечения, встречи торговых представителей или конференции. Несколько топ-менеджеров крупных фармкомпаний подтвердили (и в беседах с нами, и в интервью журналистам), что все факты, обнаруженные SEC, представляли собой рутинную практику подавляющего большинства иностранных фирм, работавших в тот период на постсоветском пространстве.
Подкупы не влияли на отпускную цену продвигаемых зарубежными фирмами лекарств. Как правило, расходы на маркетинг и рекламу изначально были заложены в цену препаратов. Однако, во-первых, таким образом происходило вытеснение из государственных закупок дешевых российских аналогов. А во-вторых, вместо жизненно важных препаратов на бюджетные средства (которых все время остро не хватало) закупались не самые актуальные на тот момент лекарства.
Довольно слабое тогда Правительство не могло сдерживать аппетиты собственных чиновников и часто вообще боролось не с ними, а с источниками их благ — взяткодателями. А еще в ходе дисциплинирования и наказания крайними стали лишенные достойного содержания врачи. Это прочитывается в тональности и обвинениях директора ФСБ, направленных на имя Председателя Правительства. «На отечественный рынок устремились зарубежные фирмы с препаратами сомнительного назначения, — предупреждал В. В. Путин, — …организующие для достижения своих целей мощные рекламные кампании и использующие коррумпированность должностных лиц… Нередко за денежное вознаграждение врачи буквально навязывают больным дорогостоящие импортные лекарства». Такое тоже было.
Дистрибьюторы зарабатывали иначе. Обыденными практиками их «дополнительного обогащения» были манипуляции с торговыми надбавками и скидками от производителей. Министерство экономики и Счетная палата регулярно фиксировали нарушения «государственной дисциплины цен». Так, в июле 2000 года Минэкономики сообщало Минздраву о фактах завышения организациями оптовой торговли предельного уровня оптовых надбавок в Карачаево-Черкесской Республике, Карелии, Северной Осетии — Алании, Ивановской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Читинской областях. В 2003 году председатель Счетной палаты С. В. Степашин доложил Правительству, что «оптовые надбавки крупных оптовиков, закупавших лекарственные средства у ФГУП „Московский эндокринный завод“, составляли от 25 до 30%, вместо установленной — 15%».
Московские и петербургские оптовики действовали изысканнее и технологичнее, чем региональные. Об их схемах, предусматривавших реализацию лекарств по договорам комиссии, поведал В. И. Матвиенко губернатор Ставропольского края А. Л. Черногоров. «Фирмы направляют лекарственные средства оптовым организациям края по накладным, цены в которых служат лишь условным денежным измерителем хозяйственных взаимоотношений, — объяснял он. — Отпускные же цены с неизвестным размером примененной оптовой надбавки ежедневно по модему передаются краевому оптовику-комиссионеру только в виде электронного файла к компьютерной программе, используемой для выписки счетов и накладных. Документы, подтверждающие отпускные цены, на бумажном носителе с подписями должностных лиц фирмы у краевого оптовика отсутствуют… Таким образом, на месте, без выезда в Москву… или другой город, где расположена фирма и ее должностные лица… установить фактическую цену производителя лекарственных средств, проверить правильность формирования оптовой цены и применения торговых надбавок на соответствие предельным размерам, действующим на территории Ставропольского края, — констатировал управленческую беспомощность губернатор, — …практически не представляется возможным».
Безотказно на обогащение работал способ «накручивания» цены в ходе многократной перепродажи лекарств. Поскольку действующий закон не запрещал устанавливать надбавки к отпускным ценам оптовиков других регионов, предприниматели пользовались этой лазейкой. В стране появились сети — цепочки оптовых организаций, которые последовательно приращивали к отпускной цене производителя предельные оптовые торговые надбавки соответствующих регионов. В ситуации информационного затемнения никто не видел (или не мог оценить) аппетитов друг друга. Как сообщало Минэкономики, «получив товар от посредников, предприятия аптечной сети не всегда могли проверить фактические цены реализации производителей», поскольку либо отсутствовали протоколы согласования цен, либо в них просто не указывалась цена.
Что же касается скидок от производителей, то оптовики, особенно крупные, почти всегда получали подобные преференции. Однако, как показало американское расследование деятельности Pfizer и Eli Lilly, эти скидки редко фиксировались в российских контрактах. Средства сразу же поступали на счета заграничных фирм-однодневок или аффилированных с дистрибьюторами оффшорных компаний. Таким образом, оптовики получали скидку, но не снижали цену лекарств при их перепродаже. Получатели считали скидку личным поощрением. В отчетах для материнской компании менеджмент российской «дочки» Pfizer определял эти расходы как «лоббистскую поддержку в тендерах по закупке лекарств».
Таким же образом дистрибьюторы выстраивали взаимодействие с отечественными производителями. По данным Минэкономики, оптовики предпочитали не указывать в протоколах размер предоставленных им скидок «при получении от производителей лекарств по ценам ниже зарегистрированных». Это были немалые суммы, которые могли бы спасти тысячи потребителей. Так, миллионы долларов на оффшорные счета двух российских дистрибьюторов перечислила компания Lilly-Vostok (российская «дочка» американской компании Eli Lilly) за получение оптовых заказов Минздрава на поставку инсулинов. Награда сделала очень богатыми российских посредников, имевших доступ в министерские кабинеты.
Так делались большие и быстрые «русские» деньги на фармрынке. В данном случае размер полученного «вознаграждения» выглядит чудовищным при сравнении с цифрами дефицита бюджетных средств с учетом инсулинового голода в регионах и стремительного роста числа осложнений и смертей от сахарного диабета в России в те годы.
Аптекари тоже зарабатывали на манипуляциях с надбавками и скидками. В материалах уже цитировавшегося доклада С. В. Степашина есть пример кланового сотрудничества оптовиков и розничных торговцев: «В октябре 2002 года розничная цена на кордиамин превышала отпускную (6,5 рубля) более, чем в 3 раза, а на атропина-сульфат (5,5 рубля) в 2,8 раза». По мнению ФСБ, местные власти не контролировали торговлю лекарствами. «Рост цен на лекарственные средства тяжелым бременем ложится на их потребителей — население и бюджетные организации, а основную экономическую выгоду получают оптовые и розничные организации», — подводила итог проведенным проверкам Счетная палата.
Свою лепту в освоение бюджетных средств внесли чиновники федерального Минздрава. Отчеты о проверках, проведенных Счетной палатой, Минфином, Главным контрольным управлением Президента РФ, открыли способы и масштабы их хозяйственной активности. Мы умышленно не приводим здесь имена, даты и названия. Исторически для нас важны не расследования и наказания, а пути обретения начального капитала, масштаб потерь и пределы дозволенности.
Поскольку Министерство здравоохранения узурпировало ведущую роль на рынке лекарств, оно могло получать сверхдоходы за счет статуса регулятора и на бюджетные средства. Варианты игры были разные. Самым простым и рискованным было присваивание государственных ассигнований. Такое тоже было. Министерство перечисляло средства (в том числе и валютные) на счета коммерческих структур и иностранных фармфирм для закупки лекарств и затем списывало их на расходы «без документального подтверждения». При этом медикаменты на склады не поступали, а деньги не возвращались. Общий объем подобных финансовых операций составил в 1996 году более 100 млн долларов. Подобным же образом использовались валютные средства по аккредитивам в счет задолженности перед СССР (Индия, Хорватия). Медикаменты поступали непосредственно в распоряжение подчиненных Министерству госпредприятий или дружеских коммерческих фирм. При этом, несмотря на требования Минфина, в бухгалтерских отчетах эти средства не фиксировались. Компании реализовали полученные таким образом препараты самостоятельно и отражали их в составе собственных доходов.
Другой сценарий примитивной игры — так называемые откаты. Министерство закупало партию того или иного лекарства на сотни тысяч долларов без конкурса у конкретного поставщика, даже если на рынке было нескольких производителей (поставщиков) данного препарата. Нередко в бухгалтерских документах контрактная цена закупленного лекарства оказывалась выше рыночной.
Видимо, соблазны рынка заглушили в игроках «от имени государства» опасения и патриотизм. Бизнес есть бизнес. Через фирмы-посредники Министерство закупало импортные лекарства, даже в тех случаях, когда имелись неплохие российские аналоги. Самым громким скандалом подобного рода стало приобретение 300 тонн болгарского анальгина для инъекций на 3,5 млн долларов. После заключения сделки было обнаружено, что большая часть анальгина произведена не в Болгарии и что он не соответствует российским стандартам качества. И все это выяснилось уже после того, как срок обмена товара истек.
Зарабатывали чиновники и на приобретении бракованных лекарств или медикаментов с истекающими сроками годности. Нередко их приходилось потом уничтожать или на страх и риск отправлять в горячие точки страны. Такие операции увели из бюджета в одном только 1996 году 4,5 млн долларов. Вопреки постановлениям Правительства, министерские сотрудники закупали препараты, не входившие в перечень ЖНВЛС, и передавали их на реализацию определенным коммерческим фирмам.
Проверявшие время от времени Министерство уполномоченные структуры обнаруживали игры чиновников с бухгалтерской отчетностью. Распределяя бюджет, они откладывали порцию денег на статью «приобретение медикаментов и перевязочных материалов». Это был запасной министерский карман. В реальности отложенные в закрома средства шли на потребности управления, а они имели свойство расти. Масштаб нецелевого использования денег за два года превысил 100 млн долларов. Скорее всего, бюджетные деньги были потрачены на важные нужды, однако их не получила система лекарственного обеспечения.
Распределяя большие суммы бюджета, чиновники вряд ли переживали за утекающие в никуда тонкие струйки денег. Во время проверки выявлялись двойные оплаты, которые они ошибочно перечислили иностранным компаниям при погашении долгов за лекарства, поставленные в 1993-1994 годах. Безнадежная дебиторская задолженность Минздрава исчислялась миллионами долларов, а никаких усилий по ее возврату служащие не предпринимали. Частая сменяемость министров позволяла списывать проблемы и долги на предшественников.
В условиях рынка сотрудники Минздрава довольно быстро нашли свою делянку и начали зарабатывать на лицензировании и регистрациях. Делалось это и легально, и нелегально. Контрольные органы обнаружили незаконное взимание средств за «экспертизу заявлений на импорт и экспорт лекарственных средств», за «присвоение уникальных номеров лекарственных средств». Такие заработки приводили к удорожанию медикаментов. Счетная палата установила, что, например, затраты «Воронежфармации» на приобретение штрих-кодов привели к удорожанию их продукции на 2%. При этом значительная часть полученных средств (в том числе и за регистрацию новых лекарственных средств и субстанций) расходовалась на жалование сотрудникам центрального аппарата Министерства.
Кроме должностных обязанностей и государственного содержания за их выполнение, в условиях рынка у чиновников появился целый спектр предпринимательских практик, приносящих беспроигрышные дивиденды. Например, распределяя бюджетные средства, можно было неплохо заработать на девальвации: если конвертировать валюту в рубли с большими задержками по времени, можно было обретать доходы на изменениях курса доллара. Через министерские госпредприятия бюджетные средства размещались на депозитах в коммерческих банках под заниженные проценты. Выявленный таким образом доход министерского аппарата составил около 1,5 млн долларов.
И поистине щедрой инвестицией в бизнес госслужащих оказалась зарубежная гуманитарная помощь. В Минздраве ее учет не велся, хотя поставки были значительными — на суммы около 10 млн долларов в год. Отчеты подведомственных учреждений, предоставленные в Комиссию по вопросам международной гуманитарной помощи, подтверждали лишь факт ее получения и отправления груза по назначению. А дальше предприимчивые дельцы распродавали часть гуманитарных лекарств через торговую сеть по коммерческим ценам. В конце 1990-х годов громкое уголовное дело было возбуждено в Волгоградской области, где была реализована партия гуманитарной помощи (медикаменты и расходные материалы) на 3 млн долларов. По данным ФСБ, аналогичные преступления совершались и в других регионах.
На проблемах с лекарственным обеспечением людей и лечебных учреждений грели руки не только скромные госслужащие, но и откровенные мошенники. Об одной из таких афер сообщила в 1994 году газета «Коммерсант». Суть аферы, которую провернула корпорация «Гренада», состояла в том, чтобы посредством масштабной рекламной кампании собрать как можно больше средств у частных лиц и медицинских учреждений на закупку дефицитных лекарств, а затем сбежать с ними из страны.
Кризис лекарственного обеспечения усугубляла энтропия трудовой дисциплины и компетентности. Главное контрольное управление Президента констатировало, что от 40 до 60% централизованно закупавшихся иммунобиологических препаратов оставались неиспользованными и списывались. В 2000 году проверка Минфина выявила 386,4 тонны лекарств «с истекшим сроком годности, находящихся под таможенным режимом уничтожения», на общую сумму в 3 546 200 долларов.