«Жить в ожидании конца — преступление перед жизнью»
Аркадий и Борис Стругацкие в 45 цитатах
ПРО УТОПИЮ И АНТИУТОПИЮ
Представления о том, каким мир должен быть, а каким не должен, в каком мире жить хочется, а в каком — страшно подумать, к чему человечеству надобно стремиться, а от чего бежать, — представления эти меняются от эпохи к эпохе разительно, диаметрально, так что кажется иногда, что добро и зло в представлении человеков способны меняться местами.
Хотелось бы нам жить в Городе Солнца? Упаси бог! Всю жизнь свою провести в казарме?.. Ни за что.
А в мире «Туманности Андромеды»? Трудно сказать... Холодно. Стерильно чисто и холодно... А вам, читатель?
 Кстати, а сами авторы утопий захотели бы оказаться в мирах, ими созданных?
Кстати, а сами авторы утопий захотели бы оказаться в мирах, ими созданных?
Утопия и антиутопия — это не антонимы. Утопия — это мир, в котором торжествует разум. Антиутопия — мир, в котором торжествует зло.
Создатель утопии всегда руководствуется рассудком, создатель антиутопии — чувством.
Автор утопии рисует мир, каким этот мир должен быть с точки зрения разумного человека, автор антиутопии изображает мир, в котором страшно жить.
Поэтому, на наш взгляд, правильнее все же говорить не об антиутопии, а о романе-предостережении. Этот термин более отвечает содержанию соответствующих литературных произведений, да и сути авторских намерений.
Пусть поправят нас специалисты, но нам кажется, что утопия родилась очень давно и умерла в XX веке. Что же касается романа-предостережения, то родился он на грани XIX и XX веков, умрет же теперь не скоро, ибо литература вкусила от сладкой горечи и познала болезненное наслаждение мрачных пророчеств.
*
Реальная прогностическая польза от романов-предостережений ничтожна. Разве удалось крупнейшим литераторам начала века предостеречь нас хоть от чего-нибудь? Разве сумели они предугадать и «вычислить» тот рукотворный ад, в который погрузилось человечество двадцатого века?
Ведь и Уэллс, и Хаксли, и Замятин в конечном счете оказались не столько глубокими мыслителями, сколько великими поэтами, не столько футурологами, сколько прорицателями в самом что ни на есть античном смысле этого слова. Они почуяли страшную угрозу, почуяли трупный запах из будущего, но кто будет гореть на кострах, кто будет корчиться на дыбе, какой Сатана станет править бал и почему это все произойдет, они не поняли и не угадали.
*
Джордж Оруэлл ничего не предсказал. Он только фантазировал на хорошо уже разработанную тему — разработанную до него и не им, а специалистами-дрессировщиками по крайней мере четырех стран. Но он правильно назвал то, что происходило с дрессируемым человеком. Он ввел понятие «двоемыслие» (double think).
В тоталитарном мире можно выжить только в том случае, если ты научишься лгать.
*
Авторы антиутопий начала века ошибались прежде всего потому, что боялись, главным образом, потери свободы — свободы мысли, свободы выбора, свободы духа. Им казалось, что это самое страшное — потерять свободу мысли и свободу распоряжаться собою.
Выяснилось, однако, что никого, кроме них, это не пугает.
Выяснилось, что массовый человек не боится потерять свободу — он боится ее обрести.
*
В классической антиутопии Оруэлла «1984» придуманы разве что детали, суть же, основные черты описываемого мира взяты из совершенно реальной действительности тогдашней Германии и России. Оруэлл ничего не предсказал, он описал то, что придумано было не им, но до него специалистами по «воспитанию масс».
О ФАНТАСТИКЕ
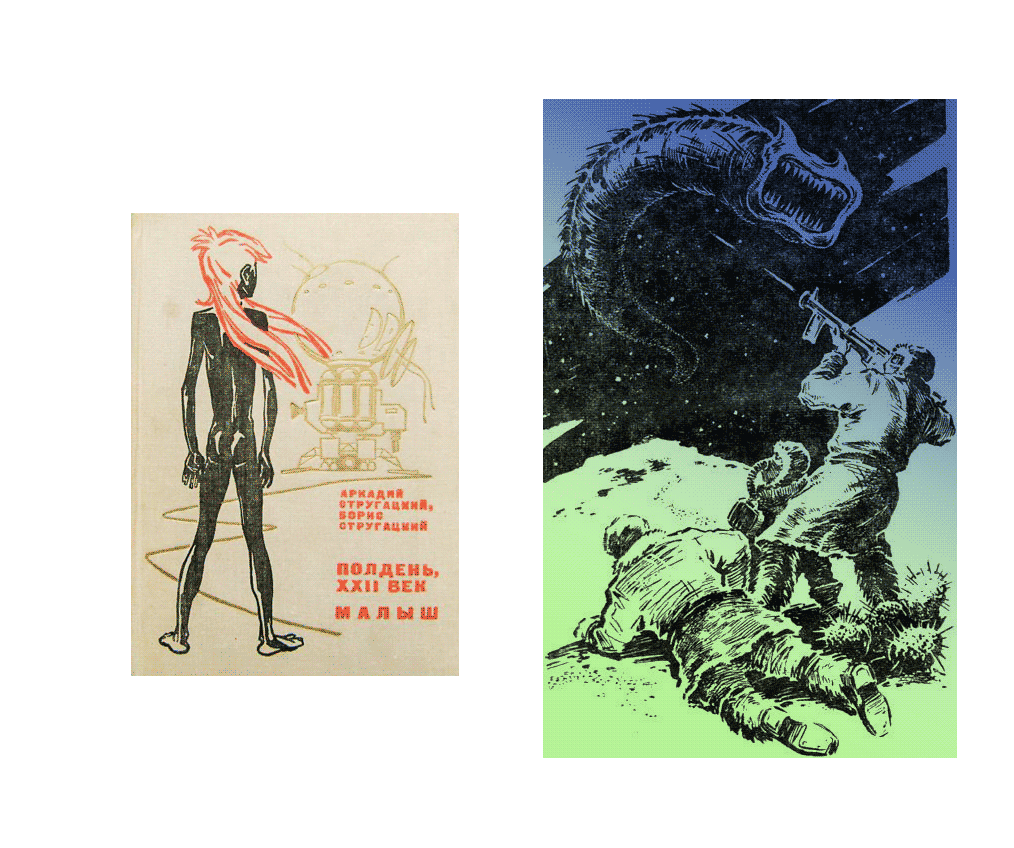
Нельзя ограничивать фантастику задачей популяризации науки и изображения научно-технического прогресса. Этого слишком мало. В тени остаются важнейшие проблемы общефилософского характера, социологические аспекты технического прогресса, чисто человеческие его аспекты, наконец.
*
Фантастика никогда не сужалась до одной темы или даже до ограниченной совокупности тем или задач. Фантастика, как и вся литература, объективно полагала своей целью отражение действительности в художественных образах, причем под действительностью следует понимать не только мир вещей и событий, но и мир общественного сознания, мир прошлого и будущего человечества в преломлении творческого восприятия писателя. И это не теоретические соображения — это эмпирический факт, который нетрудно установить, если непредвзято окинуть взором весь пройденный фантастикой путь. Поэтому, формулируя свой взгляд на фантастику, мы исходим из представления о ней, как о части всей литературы, преследующей общелитературные цели, подчиняющейся единым литературным законам. Мы стремимся не столько отграничить фантастику от всей литературы, сколько, найдя ее специфические черты, слить с общим потоком прозы.
*
Фантастика есть отрасль литературы, подчиняющаяся всем общелитературным законам и требованиям, рассматривающая общие литературные проблемы (типа человек и мир, человек и общество и т. д.), но характеризующаяся специфическим литературным приемом — введением элемента необычайного...
Необычайное может сделать произведение более фантастичным или менее фантастичным, но само по себе оно не способно сделать его литературно лучше или хуже. Как бы элемент необычайного ни поражал воображение, какой бы свежей или новой ни казалась связанная с ним идея, он не может поднять произведение до уровня большой литературы, если одновременно не выполняются некие более общие литературные требования, если, короче говоря, произведение не будет написано хорошо.
*
Нам кажется предпочтительнее оставлять в рамках фантастики значительные образцы мировой литературы, нежели отбрасывать их. Пусть лучше Свифт украсит фантастику и станет образцом для фантастов, чем Чапек в угоду жесткому определению будет искусственно исключен из нее и потерян как объект изучения и положительный пример.
 *
*
Фантастика успешно вводит думающего читателя в круг самых общих, самых современных, самых глубоких проблем, сплошь и рядом таких, которые выпадают из поля зрения иных видов художественной литературы: место человека во Вселенной, сущность и возможности разума, социальные и биологические перспективы человечества и так далее.
*
Фантастика обладает свойством с максимальной силой воздействовать на воображение читателя. Прием введения фантастического элемента, даже если фантастическое произведение трактует классическую литературную проблему, обостряет и концентрирует эмоции автора, а значит, и читателя. Фантастический элемент служит неким катализатором, в присутствии которого реакция читателя на читаемое протекает особенно бурно.
*
Что же касается фантастики научной, то своеобразие нынешней ситуации в естествознании заключается как раз в том, что современная наука с невиданным благодушием и терпимостью относится к любой игре научного воображения. Ведь и само развитие науки сделалось ныне возможным только благодаря «достаточно сумасшедшим гипотезам».
*
Когда и если (как предполагают некоторые специалисты по науковедению) развитие естественных наук достигнет стадии насыщения и интересы переместятся в другую область, научная фантастика может захиреть и исчезнуть, как в связи с развитием письменности и усовершенствованием средств коммуникаций исчез эпос.
О ПИСАТЕЛЬСКОМ РЕМЕСЛЕ
Половина наших вещей была написана так: выкристаллизовалась идея, наметились герои, заиграл сюжет, подробно разработан план двух-трех глав. И вот, когда уже написаны несколько страниц первого черновика, уже вроде бы пошло дело, вдруг выясняется, что нам скучно. Что писать не хочется. Что мы занимаемся чепухой. Именно в этот момент отчаяния и бессилия, вероятно, и начинается настоящая работа, и из глубин сознания всплывает то, над чем мы подспудно думали последнее время; то, что нас особенно задевало, что мешало жить и помогало жить; то, что и было нашей настоящей жизнью последние годы. И когда, подвигаемые отчаянием и бессилием, мы осознаем все это, как-то сами собой всплывают и новые герои, и новые ситуации, и новая форма, и новый сюжет, и мы уже наперебой рассказываем друг другу, каким должен быть мир, где развернется действие.
*
В конце концов что такое писатель? По происхождению своему он — в идеале — прежде всего высококвалифицированный читатель. Читателя же — в частности, читателя фантастики — интересуют в литературе самые разнообразные предметы. Как показали социологические исследования последних лет, одни ищут в фантастике увлекательный сюжет, оснащенный новейшими научными идеями; другие — парадоксальность мышления, столкновение несопоставимых в обычном смысле понятий и представлений; третьи — фактическую достоверность, точную прогностику, логически безупречный анализ сущего... и так далее. И каждый по-своему прав, и каждому должна быть обеспечена возможность найти искомое.
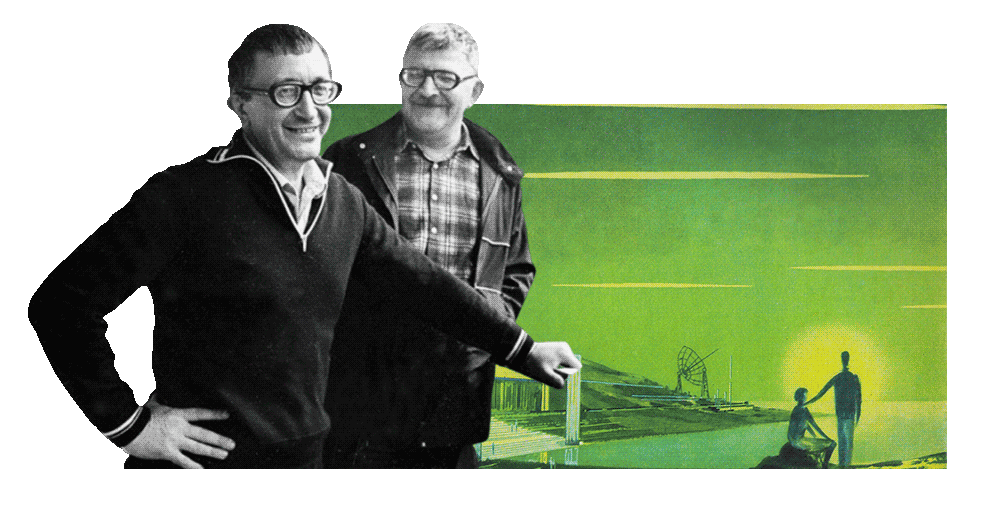 *
*
Основной принцип писателя-реалиста: «Пиши только о том, что знаешь хорошо», формулируется для писателя-фантаста в точности так же, но с маленьким добавлением: «... либо о том, чего никто не знает».
*
Вообще автобиографические образы — это у нас довольно частое явление. Как бы хорошо мы ни знали своих близких, лучше всего мы знаем все-таки самих себя. Уж себя-то мы видали в самых разных ситуациях.
*
Мы всегда знаем, чем должна закончиться наша работа, но никогда еще в истории нашей с братом деятельности произведение не кончалось так, как мы задумали. То есть мы всегда знаем, о чем пишем, и всегда... ошибаемся. Причем это выясняется не в конце, а где-то в середине вещи.
*
Счастливые концы мы отбрасываем как заведомо маловероятные при любых ситуациях.
Конструирование вселенной для нас стоит на самом последнем месте. В процессе работы сначала возникает сюжет, возникает образ, затем мы развиваем сюжет и образ. Развиваем так, чтобы наиболее четко выразить свою идею. И в соответствии с этим налепливаем вокруг свою вселенную.
*
Под писательским ремеслом мы понимаем способность автора без особых усилий — без заметных усилий — выражать любую, самую сложную, мысль чисто автоматически. Поэтому сам процесс писания не требует от нас больших усилий и оставляет нас «свеженькими» для раздумий над следующими произведениями.
*
Чем больше художественное произведение вызывает противоречивых мнений, чем больше допускает толкований, чем больше вызывает столкновений читателя с самим собой — тем оно лучше. На наш взгляд, абсолютная ценность произведения в этом случае возрастает. Читая произведение, которое можно интерпретировать так, и так, и этак, и так, человек порой меняет свое мировоззрение. Он начинает понимать, что окончательных ответов в мире не может быть. Вот что самое главное. Сегодня он пришел к такой-то интерпретации, а через год перечитывает вещь — и у него получается другая интерпретация. Он накапливает опыт.
*
Хотя половина наших повестей — повести о будущем, более или менее далеком, мы всегда описывали не те миры, что когда-нибудь реализуются, а лишь те, в которых нам самим хотелось бы — или, наоборот, очень не хотелось бы — жить.
*
Если ты хочешь сообщить мысли, кажущиеся тебе новыми и необычными, читателю неподготовленному, приходится строить острый сюжет.
*
Только человек со всеми его «измами» — цель, а идти к ней, к разным его глубинам и допускам, для нас естественно путем фантастики. Вот и все.
О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИСТРАСТИЯХ
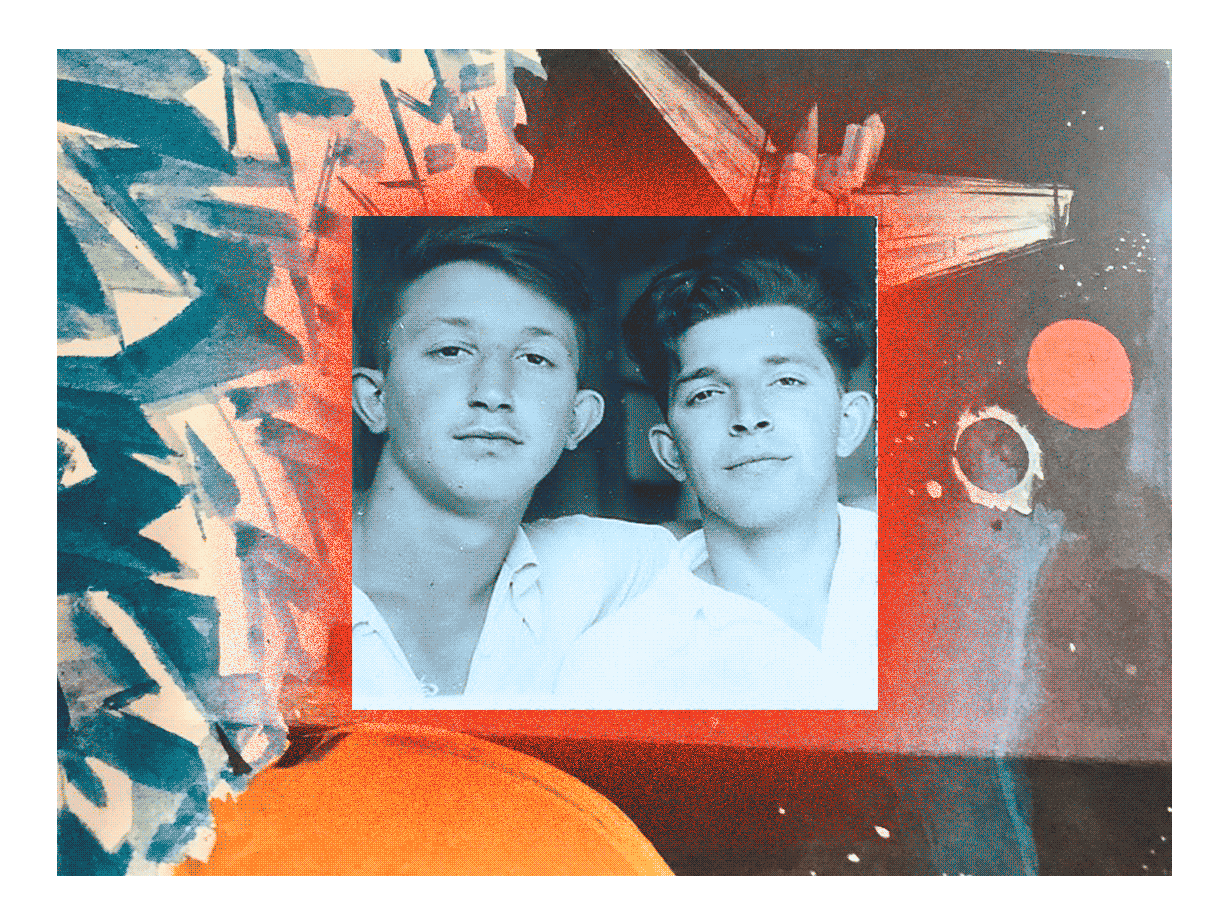
Аркадий:
Гоголь, Чехов, Достоевский — из этого источника можно пить всегда, перенасыщения не бывает... Как только чувствуешь, что дальше работать нельзя, сразу хватаешься за них... а вот видишь, вон стоит Салтыков-Щедрин — полный! — великолепное издание — так его читаю бесконечно и когда работаю, и когда не могу работать... А из «Войны и мира», по-моему, уже суп варить можно, пусть тебя не шокирует это мое словечко — это когда я вещь уже наизусть знаю... ну о Булгакове уже и говорить нечего... Это страшное преступление по отношению к Стругацким, что мы так поздно получили Булгакова! Мы были бы, наверное, гораздо более интересными писателями, прочитай Булгакова раньше... А еще родоначальники мировой юмористики Джером К. Джером и Джекобс — наше вечное чтение, тоже суп варить можно. Все собрание сочинений Фейхтвангера — тоже.
Борис:
Герберт Уэллс научил нас очень важному: что фантастика есть лирика человеческих возможностей и что писать надо о самых обыкновенных людях в необыкновенных обстоятельствах... Грэм Грин нам «объяснил» замечательную вещь, которую мы понимали интуитивно, но именно у него это увидели воочию: он показал нам, что можно и должно в произведении сочетать все элементы — психологическую прозу, и острый детективный сюжет, и выдумку, и юмор, и трагедию — и все в одной вещи. Потом мы то же самое встретили у Ивлина Во.
О СЕМЬЕ
Борис:
В 37-м его (отца) исключили из партии. Его спасло то, что он поехал в Москву добиваться реабилитации, его, конечно, должны были посадить, как мы теперь понимаем... через два дня его бы посадили, но не оказалось на месте — и это спасло... Он пошел в ополчение в 1941 году... (в Гражданскую войну был комиссаром, сохранились фотографии, где сам он в буденовке, все с маузерами)... Но порок сердца не давал ему возможности воевать по-настоящему, его комиссовали, он взял Аркашку и уехал догонять Публичную библиотеку — был ее сотрудником... но не доехал — умер по дороге, а Аркашка выжил — чудом в общем-то... Мы недавно сидели вчетвером — Аркадий, Ленка, его жена, Адочка моя и я — и прикидывали: как вообще могло случиться, что мы вот... сидим все вместе?! Пришли к выводу, что это совершенно невероятное, вообще говоря, стечение обстоятельств — конечно, мы все должны были погибнуть. Я должен был умереть в блокаду — это было ежу ясно, я умирал, мама мне об этом рассказывала... меня спасла соседка, у которой каким-то чудом оказался бактериофаг... Мне дали ложку этого лекарства, и я выжил, как видите.
...Аркадий тоже должен был погибнуть, конечно, — весь выпуск его минометной школы был отправлен на Курскую дугу, и никого не осталось в живых. Его буквально за две недели до этих событий откомандировали в Куйбышев на курсы военных переводчиков. В той теплушке, в которой ехали отец и Аркадий, умерли все, кроме брата. Потому что это были эвакуированные из Ленинграда, которых сначала переправили по Дороге жизни, потом от пуза накормили...
— Разве так можно?
— Нельзя, конечно, но тогда этого никто не знал. Начался кровавый понос... что-то жуткое... многие сразу умирали. Потом живых посадили в ледяной вагон и — до Вологды без остановки, без врачебного внимания... Вот так. Аркадий был, конечно, чрезвычайно крепким молодым парнем — он выжил тогда один среди всех.

...Ленка Аркашина, безусловно, должна была погибнуть — она была дочерью нашего посольского работника в Китае, попала в самый разгар японского наступления на Шанхай, их эвакуировали оттуда на каких-то немыслимых плавсредствах, сверху бомбила авиация, — как они выбрались живыми, непонятно до сих пор.
...Ада, моя жена, попала под Ставрополем под немецкую бомбежку, был сброшен десант, все беженцы рассыпались по полю... а на них пошли немецкие танки! Они остались в оккупации, помирали там от голода, и всю ее семью должны были расстрелять как семью советского офицера. Все списки были уже представлены... их спасли только партизаны.
...Как мы все уцелели? И к тому же встретились вчетвером? Это чудо.
Так что жизнь для нас — чудо четырежды, и ко всем ее радостям, трудностям и даже неприятностям мы относимся с уважением, жизнь не уважать нельзя.
О ЖИЗНИ И ОБЩЕСТВЕ
Для нас счастье — это кратковременное ощущение радости бытия, возникающее от сознания хорошо выполненного замысла. Ощущение острое, сильное и редкое. Оно возникает неожиданно и быстро исчезает, потому что невыполненного, незаконченного и неудачного всегда больше и нормальное состояние озабоченности и неудовлетворенности, естественно, преобладает. Поэтому мы гораздо более ценим ощущение занятости и полноты жизни, ощущение менее яркое, но более длительное и надежное.
*
Мещанин — это человек, который не желает или не может мыслить хорошо. Его кругозор узок, его духовные потребности бедны и примитивны, а эгоизм его богат и многогранен. Он не хочет знать больше, чем знает, и не желает понять, что кто-то способен думать и чувствовать иначе, чем он. Мещанин — это прежде всего эгоист, и все его усилия направлены на создание оптимальных условий для своего существования. В достижении таких условий он не брезгует никакими средствами, потому что все его принципы сводятся к одному: «Пусть мне будет хорошо — это главное, а остальное как-нибудь утрясется». Бывает, на наш взгляд, мещанин глупый и мещанин умный. Глупый мещанин обнаруживается легко: он честен, ибо искренне полагает, что является центром мироздания. Умный мещанин подозревает, что это не так, но считает, что это должно быть так, а потому лжет и скрывается под удобными масками: под маской простосердечия, или под маской учености, или под маской преданности, или под маской принципиальности и непримиримости.
 *
*
Подвиг — это победа человека над своими животными инстинктами и наклонностями: над страхом смерти, над страхом утратить спокойную, устроенную жизнь, над ленью, над стремлением к удовольствиям. Поэтому, нам кажется, подвиг тем более велик, чем сильнее внутреннее противодействие ему. Поэтому самые великие подвиги — растянувшиеся на годы: совершить их труднее всего, и почти всегда они бескорыстны.
*
В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне XIX столетия. Эта давняя система воспитания ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготавливать для общества квалифицированного участника производственного процесса. Все остальные потенции человеческого мозга эту систему практически не интересуют. Неиспользование этих потенций имеет результатом неспособность индивидуума к восприятию гигантски усложнившегося мира, неспособность связывать примитивно-психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственного удовлетворения самых примитивных и архаичных социальных инстинктов. Однако неиспользованные потенции остаются скрытой реальностью человеческого мозга, и в них залог грядущего прогресса человечества. Привести эти потенции в движение, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей все усложняющегося мира — вот цель и содержание гигантской революции духа...
Эта революция, на наш взгляд, наряду с коренными социальными преобразованиями должна стать основной задачей человечества на ближайшую эпоху. Она огромна. Никакой отдельный человек не в силах поставить ее во всей широте и глубине... Однако уже сейчас ясно, что важная роль воспитания Человека в человеке принадлежит литературе.
*
Научно-технический прогресс более не является источником чуда. Напротив, он убивает чудо, срывая с него яркие привлекательные одежды и ставя его в один ряд с прочими фактами, давно известными и организованными в ту систему, которую называют обыденной жизнью.
*
XX век дал наконец ответ на старый вопрос: что будет с массовым человеком, если он одет, обут и накормлен досыта? Станет ли он добрее, честнее, умнее вообще — лучше? Оказалось — нет. Удовлетворение потребностей вызывает лишь появление новых потребностей. Каждый новый уровень «сытости» проявляет в массовом человеке новые минусы.
*
У нас в «Понедельнике...» есть очень даже неплохие слова о том, что для развития духовных способностей нужен талант, а вот для развития материальных потребностей никакого таланта не нужно, они развиваются спонтанно. Получать побольше, работая поменьше — это, к сожалению, заложено в нашей обезьяньей природе. Вот с чем надо бороться до тех пор, пока не произойдет перестройка в сознании, и мы станем уважать человека, исходя из того, сколько он отдал, а не сколько и чего потребил.
Аркадий:
Цивилизация есть социальная система, которая наличествующими производительными силами непрерывно создает новые потребности и тут же создает способы их удовлетворения.
Борис:
Любопытно, что империя как особая форма существования государства не имеет сейчас под собой никакой материальной опоры — она держится исключительно на фундаменте идеальном; имперское сознание, исторически сложившееся, чрезвычайно все еще популярное представление о том, что превыше всего держава, а все остальное уж как получится, государство выше человека, государство выше истины!.. Империя существует лишь постольку, поскольку идея ее существует в массовом сознании — это не может продолжаться долго. Сколько же можно твердить, что «нам нужна Великая Россия», в то время как совершенно ясно, что «нам нужна» Россия прежде всего Счастливая, Богатая, Цивилизованная — именно этим и прежде всего в этом великая...
О БУДУЩЕМ И ЕГО ПРЕДСКАЗАНИЯХ
Вероятность встречи с цивилизацией именно земного типа, да еще находящейся на уровне развития, не слишком отличающемся от нашего, пренебрежимо мала. Трудно ведь себе представить, чтобы цивилизации двух разных планетных систем развивались голова в голову. Одна наверняка будет впереди другой хотя бы на тысячи, а скорее всего — на миллионы лет. В космических масштабах миллион лет — это мгновение; в масштабах же человеческой истории это невообразимо долгий срок. Так что если кто-нибудь действительно откликнется на наши сигналы, то, наверное, это будет либо невероятно далеко ушедшая от нас цивилизация земного типа, либо цивилизация негуманоидная, обладающая сходной с нами технологией, однако безмерно отличающаяся от нас психологически. В первом случае мы просто окажемся неспособны на обмен информацией. Мы не сможем даже получить ее, как не смог бы троглодит получить от нас принципы устройства атомного котла. Во втором случае положение еще безнадежнее, а может быть, и опаснее. В лучшем случае мы могли бы представлять друг для друга интерес в плоскости сравнительной зоологии.
*
Если бы пришельцы научили человечество космическим перелетам, что понесли бы на Сириус и на Альдебаран неонацисты и хунвэйбины?
*
Предсказывать, каким будет человек в мире, изуродованном катастрофой, слишком просто и слишком банально (хотя, конечно, и небесполезно).
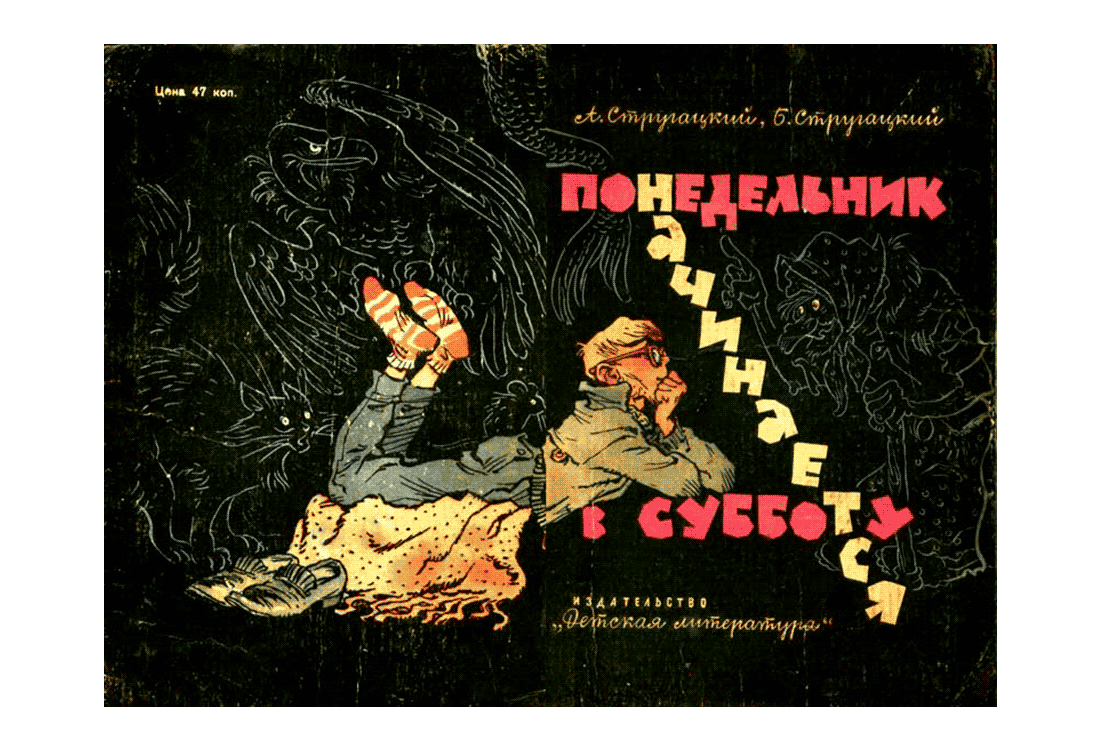 *
*
Нам кажется, нам хочется думать, что поколение, идущее следом, не приемлет диктатуры. И не потому, конечно, что оно умнее, честнее, вообще лучше нас, — просто его не успели или не сумели скрючить. Ему неведомы наши страхи, наши надежды и наши восторги. Диктатура, общественный идеал, высокие политические цели, замечательные слова и громкие лозунги — все это им попросту неинтересно. Их вселенная — в другом измерении, их цели — совсем в другой социальной плоскости. Они любят и мучаются любовью, но любовь у них не такая, как у нас, — она кажется нам столь же развязной, грубой, бездуховной, как и они сами. Они дружат и высоко ценят дружбу, но — господи ты боже мой! — каких друзей они себе выбирают! Они работают, они готовы работать, и многие из них умеют это делать, но как редко любят они свою работу и как часто бывают неразборчивы! Мне многое неприятно в них, не хочу лукавить. Но одного достоинства у них не отнимешь: они начисто лишены способности испытывать энтузиазм. Мне кажется, их невозможно построить в ревущие колонны, дабы они под развевающимися знаменами ринулись на указанного свыше врага. С этим поколением такой номер уже не пройдет — придется готовить новое, а на это понадобятся два десятка лет, да и воспитатели уже не те...
Аркадий:
Я готов с кем угодно спорить на ящик коньяка, что ядерной катастрофы не будет. И я не проиграю, потому что если проиграю, то мне отдавать будет некому... А всерьез... Дело в том, что жить в ожидании конца — преступление перед жизнью.
Борис:
Меня спрашивают: «Будет ли для вас неожиданным поворот к диктатуре?» Боже мой, да конечно же, нет! Наше поколение ждет этого поворота с лета 1985-го, ждет с самого начала и спорит только, как это будет выглядеть. Невозможно-де представить себе, чтобы такой великолепно отлаженный за семьдесят лет, точно отъюстированный в замечательно саморегулирующийся механизм удержания и усиления власти, боевая машина Великой Империи — Партия плюс Тайная полиция плюс Военно-промышленный комплекс, — чтобы этот Голем XX века сдал свои позиции за просто так, только потому, что время его истекло, империи сделались анахронизмами, а войны перестали приносить дивиденды.
Борис:
Где-то в старых дневниках своих я нашел недавно список ученых, философов, социологов XIX века, предсказавших с высокой точностью, что именно ожидает человечество, если оно встанет на путь социализма. В этом списке Спенсер, Тьер, Ле Бон, Молинари... Маркс и Энгельс там тоже есть — ранние Маркс и Энгельс. Они были дьявольски проницательны и беспощадны, когда не стремились подогнать мир будущего под представления «Коммунистического Манифеста», они предвидели и охлократию, и разруху, и концлагеря, и многое другое, что предстояло нам пережить в ту эпоху, которую они называли переходным периодом к социализму... Я уж не говорю о Достоевском, ибо Достоевский был гений, и я не говорю об Уэллсе и Замятине, ибо они успели увидеть своими глазами, как все это началось. Таким образом, следует сделать вывод, что содержательный прогноз истории возможен.
Правда, это, как правило, мрачный прогноз. Оптимистические предсказания почему-то не сбываются.
*
...хочется дожить до момента, когда жить надоест: по слухам, такой момент рано или поздно наступает.
Цит. по изд.: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Страна багровых туч. Рассказы. Статьи, интервью. М.: Издательство «Текст», 1993