«Здравствуйте, вы Мещеряков-сан?»
Интервью с японистом Александром Мещеряковым
Фото: НИУ ВШЭ
Всеми любимому японисту Александру Мещерякову 7 февраля исполнилось 75 лет. В честь этой даты Борис Куприянов сделал для «Горького» большое биографическое интервью с Александром Николаевичем — поговорил с ним о пути в науке, судьбах русской японистики, переводческом и художественном творчестве, а также о многом другом.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, как вообще в России сложилась японистика. Судя по всему, до русско-японской войны ее фактически не существовало?
— Она существовала, но в зачаточном виде. В Санкт-Петербургском университете немного преподавали японский язык, но по-настоящему серьезного интереса не было. Про Японию вообще знали очень мало. Зафиксирован характерный разговор двух русских генералов в начале войны, когда один спрашивает другого, что это за страна такая Япония. Второй отвечает, что Япония — это островная империя, а первый удивляется, разве бывает империя на островах? Оба генерала были пожилые, ветераны русско-турецкой войны. И только после окончания японской войны в Санкт-Петербургском университете начала формироваться серьезная японистика. Оттуда вышли основатели нашего научного японоведения: Николай Конрад, Николай Невский, Сергей Елисеев. У них была очень основательная, классическая подготовка. Они изучали и китайский язык, учились и в Японии. Это были выдающиеся специалисты. Елисеев стал первым иностранцем, окончившим Токийский императорский университет. Все это происходило еще до революции, но затем последовала революция и разруха.
Принципиальная позиция большевиков заключалась в том, что национальная психология и культура считались областью буржуазных предрассудков, главным был классовый подход. Предполагалось, что у японского и русского пролетария больше общего, чем у японского капиталиста и японского пролетария. В двадцатые годы по инерции еще выходили некоторые работы и переводы классики, но затем классовый подход окончательно восторжествовал — публиковались, в основном, переводы «прогрессивных» пролетарских писателей, тексты про эксплуатацию рабочего класса, угнетенную деревню, униженных женщин и тому подобное.

Судьба первых японистов сложилась драматически. Сергей Елисеев, сын купцов Елисеевых, после революции и короткого ареста сумел детективным образом перебраться сначала в Финляндию, затем во Францию. Во Франции японистика существовала где-то на периферии гуманитарной науки, мест для работы было мало. Несмотря на его высочайшую квалификацию, французы не приняли Елисеева в свой круг, поэтому в начале тридцатых годов он переехал в Соединенные Штаты, где японистики практически не существовало. В результате он стал одним из основателей американской японистики. Невского, который работал в Японии, занимался там этнографией и публиковал работы на японском языке, уговорили вернуться в Советский Союз и в итоге расстреляли. Во второй половине тридцатых годов советских японистов массово арестовывали как японских шпионов. Конрада тоже арестовали. Вначале он работал на лесоповале, затем оказался в Москве, в японистической шарашке. Там Конрад переводил древний китайский трактат Сунь-цзы по военной стратегии. Трудно поверить, но, видимо, работа в шарашке так понравилась начальству, что в 1945 году, уже после окончания войны, Конраду дали орден Ленина. За что дали, конкретно не говорилось, формулировка была общей, «за большие достижения».
— Но ведь про Японию и в Европе вообще никто ничего не знал по сути, несмотря на всю эту моду на ширмы, увлечение импрессионистов японскими гравюрами и так далее. В отличие от Китая, Японии как будто даже в науке не существовало.
— Какие-то публикации, конечно, были, но все-таки они были, скорее, спорадическими. Были отдельные люди, которым, например, очень нравилась традиционная японская архитектура или гравюра, они об этом писали, но это был глас вопиющего. По-настоящему интерес к Японии в мире пробудился только в конце пятидесятых и в шестидесятые годы, и был он связан с феноменальным экономическим ростом: Япония тогда демонстрировала около десяти процентов роста ВВП в год, это действительно потрясло мир. Тогда и началось планомерное, систематическое изучение Японии.
Здесь на первом месте оказались Соединенные Штаты, которые после окончания Второй мировой войны приняли стратегическое решение сделать Японию своим главным партнером в Азии. И тогда американцы начали развивать японистику по-настоящему. До Второй мировой войны ее практически не существовало — Елисеев пытался что-то делать, но этого было недостаточно. Во время войны срочно потребовались переводчики с японского языка, и Елисеев, в частности, занимался их подготовкой. Его роль была чрезвычайно значительной еще и потому, что именно он активно выступал против идеи сбросить атомную бомбу на Киото. Он был не единственным противником этой затеи, но его голос был слышен, потому что он был авторитетным специалистом. Он говорил, что если сбросить бомбу на Киото, древнюю японскую столицу, японцы этого никогда не простят. В результате, к несчастью для других городов, бомбы сбросили на Хиросиму и Нагасаки. И на сегодняшний день американская школа японоведения, конечно, самая мощная в мире. Почти в любом, даже самом захолустном университете, есть программы, связанные с изучением Японией.
— А у нас как было?
— В пятидесятые годы еще, в общем, мало что происходило, но в шестидесятые ситуация меняется. Я поступал в университет в 1968 году, и Япония уже безусловно находилась в фокусе внимания, на японское отделение тогда поступить было трудно. Это было связано отчасти с интересом к японской культуре, но в очень значительной степени с прагматическими соображениями. Основная часть моих сокурсников стремилась в так называемые практические учреждения, дававшие возможность командировок в Японию с валютной зарплатой, на которую приобретались транзисторные радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и так далее.
— В контору хотели устроиться?
— Были и другие варианты. Например, Союз советских обществ дружбы тоже считался престижным учреждением. Или профсоюзы, там тоже работали японисты, потому что осуществлялся обмен с японскими профсоюзниками. МИД и другие министерства, которые торговали с Японией. Появились и японские туристы, а это уже «Интурист». Япония занимала чрезвычайно важное место в структуре сознания советского руководства. Экономика бурно росла в «отсталой» азиатской стране. Надо же! Кроме того, в Японии тогда было очень сильное антиамериканское движение. Американских баз было много, Окинава воспринималась почти как заграница, для поездки туда требовался иностранный паспорт. Многим японцам это не нравилось, антиамериканское движение было мощным, и советское руководство рассчитывало на Японию как на противовес американскому влиянию. Этого в результате не случилось, но благоприятное отношение советского руководства к «японскому народу» все-таки сказывалось на отечественных японистах. В частности, они активно переводили японских писателей самого высокого уровня. Ведь многие из них занимали антиамериканские позиции. В СССР их принимали, их произведения переводили. Поэтому тех авторов, которые были известны и в самой Японии, у нас хорошо знали. Переводили Кавабату Ясунари, Абэ Кобо, Оэ Кэндзабуро, Акутагаву Рюноске. Одновременно переводили и старую японскую литературу, пусть и не в очень больших количествах, но все равно это были прекрасные тексты. Например, «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон. А она ведь жила тысячелетие назад! Один мой знакомый, геолог, рассказывал, что в экспедиции, где-то в Сибири, они читали эту книгу при свете костра. Существовало ощущение, что если ты не читал японцев, то что-то важное упускаешь, поэтому интерес к японской литературе был чрезвычайно велик.
Конец шестидесятых, семидесятые годы и первая половина восьмидесятых стали пиком интереса к Японии как к экономическому гиганту и как к стране с мощной культурой и литературой. Японское кино в СССР тоже активно показывали, шли фильмы выдающихся режиссеров, затем начали снимать и совместные картины.

— То есть, когда вы поступали в университет, уже существовала школа японистики?
— Безусловно. Другое дело, что в условиях очень сильной изоляции она была довольно своеобразной. Мы учили японский язык по учебникам, где Иванов встречал Танаку на праздновании Первого мая. Грамматика в этих учебниках излагалась хорошо, но тексты были плакатные. А японского радио у нас просто нельзя было услышать. Единственное, что было мне доступно, так это «Голос Ватикана», вещавший на японском языке в полночь. Передача длилась полчаса.
— Там выступали носители языка?
— Да, но надо понимать, что это была религиозная передача. Там читали проповеди, отрывки из Писания, что, безусловно, тоже по-своему полезно.
Но мне повезло. Я закончил университет в 1973 году, и именно тогда были организованы курсы синхронного перевода. Их учредил международный отдел ЦК КПСС. Причина была в том, что почти все лучшие переводчики с японского языка того времени были выходцами из Маньчжурии. Они ходили в японские школы, и для них японский язык был фактически родным. Но они уже успели постареть, встал вопрос о новой генерации.
— Это были русские мигранты?
— Были корейцы, были и русские, связанные с КВЖД. В 1935 году Сталин продал ее Маньчжоуго, где всеми делами заправляли японцы. Белогвардейцев в Маньчжоуго было тоже немало. Их дети учились в японских школах. После войны началась волна репатриации. Кого-то, как водится, посадили, кто-то после долгих мытарств устроился. У нас, например, преподавал Леон Абрамович Стрижак. Это был очень яркий человек. У него не было высшего образования. После репатриации он работал комбайнером, а потом каким-то образом сумел устроиться преподавателем. Он был очень талантливый, живой, замечательный человек.
При поступлении на курсы синхронного перевода нам обещали поездку в Японию. Я никогда не хотел быть устным переводчиком, но мне очень хотелось попасть в Японию. Хотя я учился хорошо, меня срезали на экзаменах и на курсы не взяли. Но потом одна девушка, у которой был влиятельный отец, отказалась от учебы на курсах, и тогда меня взяли на ее место.
— Какой это был год, 1974-й?
— Да. Мы поехали в частный университет Токай. Его владелец, Мацумаэ Сигэёси, примыкал к Социалистической партии Японии. Организуя обмен с советскими студентами, он рассуждал так: сколько может длиться проклятая холодная война, надо что-то делать! Вот он и заключил договор с Московским университетом, и нас отправили в Японию на полгода. Изначально звали на более длительный срок, но по советским, не знаю, писаным или неписаным правилам нельзя было сдавать отпечатки пальцев. Это считалось унизительным для советского человека. А по японским законам, если ты находишься на территории Японии более полугода, ты обязан сдать эти отпечатки. В итоге мы поехали ровно на эти полгода.
Это, конечно, было здорово. Ты оказался в языковой среде, видел и слышал живых японцев. Японский язык мы знали не так плохо, но про культуру — мало. У нас не было курсов по культуре и религии Японии. Литература была, история была, но чего-то более детального не существовало. Китайский язык не изучали, а ведь на нем было написано в Японии огромное количество текстов. По старояпонскому языку — бунго — был только кратенький курс. То есть львиная часть японской литературы была тебе недоступна. Тем не менее, первую курсовую я писал по древнему японскому буддизму. Понятно, что уровень был слабый, но мне хотелось этим заниматься и дальше. Однако установка была простая: занимайся современностью и точка. Диплом мне пришлось писать про тайваньских эмигрантов в Японии.
— А как вообще можно изучать такую закрытую, самобытную культуру, опираясь только на язык?

— Это невозможно. Это очень плохо и сильно обедняет понимание. Но тогдашнее руководство считало, что все это не нужно. Первая книга, посвященная японским религиям, вышла в Советском Союзе только в 1968-м году. Тонкая книжечка, называлась «Старые и новые боги Японии». Она воспринималась как гигантский прорыв, хотя там было идеологии больше, чем следовало.
Плохое знание японских реалий формировало питательную среду для фантазий. Интеллигентные люди часто формировали представления о Японии по средневековой литературе и не слишком грамотным описаниям современной Японии. Кому-то казалось, что японец с утра медитирует, потом, немного поработав, отправляется на чайную церемонию. Российская утопия вообще склонна быть пространственной. Еще в XVII веке среди русских христиан существовали представления о Беловодье — некоей идеальной земле, находящейся где-то за морем. Этот райский остров локализовали по-разному, в том числе и в Японии.
— Батюшка, который меня крестил, человек довольно дикий, например, считал, что Япония — это страна Гога и Магога.
— Интересно придумано! А вот в конце XIX века несколько старообрядцев переправились в Японию и были страшно разочарованы. Они ожидали увидеть общество всеобщего равенства, без власти денег, а увидели капитализм первоначальной эпохи накопления.

Но в православной церкви находились и люди, которые знали Японию очень хорошо. Был такой замечательный человек — Николай Японский. Он приехал в Японию в начале шестидесятых годов XIX века, чтобы проповедовать. Вообще-то у православной церкви миссионерский заряд, по сравнению с католиками или протестантами, довольно слабый. Позиция примерно такая: мы примем любого, приходи, пожалуйста, но ты сам должен проявить инициативу. Поэтому выдающихся православных проповедников за рубежом насчитывалось не так много. А Николай, в миру Касаткин, был потрясающим человеком. Прекрасно изучил японский язык, переводил Писание, много путешествовал по стране, водил знакомство и с элитой, и с простонародьем. Практически в одиночку крестил около тридцати тысяч японцев, столько же, сколько крестили многочисленные протестантские миссионеры. Он пользовался огромным уважением у японцев, основал православную семинарию (оттуда вышли первые переводчики русской литературы), построил Воскресенский собор — самое высокое здание тогдашнего Токио. Во время русско-японской войны ему настоятельно рекомендовали вернуться в Россию, но он отказался, сказав, что не может бросить свою паству. Сам он богослужения во время войны не проводил, но продолжал окормлять и японских православных, и многочисленных русских военнопленных. Простая, казалось бы, проблема: яйца к Пасхе. В Японии содержалось семьдесят тысяч русских военнопленных, и каждому нужно по пасхальному яичку. Достать их в тогдашней Японии было не так просто. Николай и умер в Японии. Его дневник — невероятно важный источник и как человеческий документ, и как материал по истории японского православия. История самого дневника тоже удивительна. Он долгое время считался утерянным, но японский русист Накамура Кэнноскэ обнаружил его в российских архивах. Обнаружил, потому что искал. Это стало сенсацией и в научном, и в религиозном мире. Накамура мог воспользоваться случаем и издать дневник в Японии, но он настоял на том, что издавать нужно именно в России. При этом Русская православная церковь не дала на издание ни копейки, дневник был опубликован на японские деньги. Это было в 2004 году. Для меня это очень грустная история. Сейчас, правда, положение изменилось и в Николо-Угрешской семинарии работают над десятитомником трудов Николая. Насколько мне известно, издано уже шесть томов.
— Получается, вы вернулись после стажировки в 1975 году. Вы уже понимали тогда, что такое Япония, и решили заниматься наукой?
— Да, для меня это было совершенно однозначно. Я не хотел заниматься никакой так называемой практической деятельностью. До этого я немного подрабатывал переводчиком, посмотрел, как обстоят дела, какие люди там командуют, и понял, что это не мое. Это было решение и умственное, и еще больше эмоциональное. Наблюдать этих людей, ходить под ними для меня было абсолютно невозможно. Тогда возник вопрос, как податься в науку. Нужно было поступать в аспирантуру. Но сделать это было непросто. Мест мало, конкуренция огромная.
У меня был тогда близкий приятель Павел Познер, сын Владимира Александровича Познера и младший брат Владимира Владимировича Познера, он учился со мной на одном курсе, на вьетнамском отделении. Он как раз поступил тогда в отдел Древнего Востока Института востоковедения и рассказал обо мне Григорию Максимовичу Бонгард-Левину, индологу, который позже стал членом-корреспондентом и академиком. Паша сказал, что есть такой способный парень, и Бонгард-Левин меня поддержал. Я сдал экзамены в аспирантуру, получил все пятерки. Но оказалось, что у меня был конкурент, арабист, который тоже сдал все на пятерки, а место в аспирантуру было только одно. Дальше началось соревнование отделов. Отдел арабских стран был очень сильный, отдел Древнего Востока выглядел куда скромнее. В итоге меня не взяли.
Я тогда на какое-то время устроился в ИНИОН реферировать журналы. Но Бонгард-Левин был человеком очень опытным. По всем советским правилам меня не имели права не взять, но это право нужно было буквально выбивать. И он его выходил, путешествуя по соответствующим кабинетам в Академии наук. Через полгода я оставил ИНИОН и все-таки оказался в аспирантуре.
— Японистика существовала, но аспирантов почти не было?
— По современности были. В Институте востоковедения существовал отдел Японии, довольно большой. Там аспиранты были. Но этот отдел занимался только современностью, классика их не интересовала. Однако без знания старой Японии новую Японию тоже понять невозможно! Нам с вами это кажется очевидным, но тогдашнее начальство так не думало. Япония в то время считалась «выгодной» страной, командировки туда позволяли существенно улучшить свое материальное положение. Я ничего не имею против занятий современностью, это чрезвычайно важная область, но в результате там собиралась публика довольно конъюнктурная, и более глубокие вещи их просто не интересовали.
— Но при этом, как я понимаю, на Западе даже самые утилитарные подходы опирались на понимание культуры.
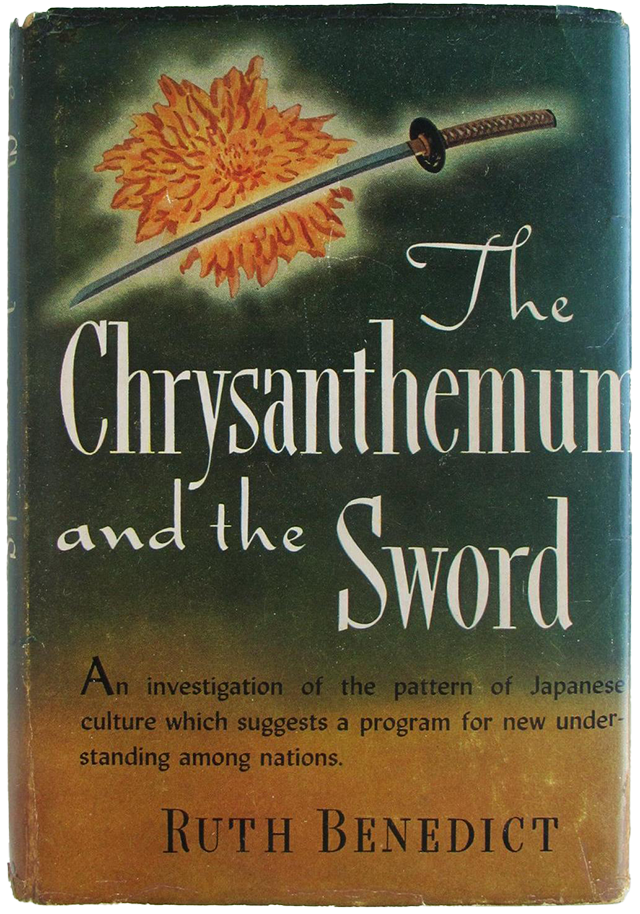
Да, это в значительной степени так. Классическая история связана с книгой «Хризантема и меч». Ее автор, Рут Бенедикт, не была специалистом по Японии. Она изучала индейцев. Но поскольку в Америке просто не было специалистов по Японии, армейское командование дало ей партийное задание — составить психологический портрет японца, и она взялась за эту работу. У нее был крайне ограниченный материал. Японского языка она не знала, с японцами контактировала только с теми, что находились в лагерях для интернированных в Калифорнии. Тем не менее, она сумела понять довольно много, хотя и ошибок у нее, конечно, немало.
Тогда в Америке шла серьезная дискуссия, что делать с императором Хирохито. Признать его военным преступником и наказать? Армейское командование поддерживало эту точку зрения. А рекомендация Бенедикт была другой. Она говорила, что императора нужно использовать в американских целях. Если его посадить, расстрелять или повесить, страна потеряет управляемость — ведь у императора колоссальный авторитет. Намного разумнее сохранить его и использовать как инструмент для стабилизации положения. И военные к этому прислушались. Это, на мой взгляд, совершенно поразительная история. Какая-то женщина, этнограф, специалист по индейцам, дает рекомендации боевым генералам! Но генералы послушались ее, и было принято чрезвычайно умное решение — сохранить императора. И он велел своим подданным слушаться Макартура и действовать в соответствии с его распоряжениями. И сколько-то серьезного сопротивления американской оккупации не было.
— То есть вы были едва ли не единственным аспирантом в СССР, кто занимался Древней Японией?
— Других я что-то не припомню. Я писал диссертацию о синкретизме буддизма и синтоизма в древней Японии. У меня было два научных руководителя. Первый — Григорий Максимович Бонгард-Левин, второй — замечательный человек и японист Наталья Александровна Иофан. Бонгард обеспечивал «прикрытие» — пристраивал мои статьи, следил, чтобы документы были в порядке. А Наталья Александровна работала со мной по существу. Беседы с ней были чрезвычайно полезны. Я защитился в срок, но дальше возникла проблема с устройством на работу. В отделе Древнего Востока не было вакансий. И тогда умный Бонгард-Левин дал мне совет. «Идите к заместителю директора Георгию Федоровичу Киму и подарите ему реферат диссертации. Он его полистает, помолчит для важности, потом спросит: „Есть ли какие-нибудь пожелания?“ Вы ответите, что хотите работать в отделе Древнего Востока, но места нет. Он ничего не скажет и вежливо попрощается с вами. Уверяю, что вас зачислят».

Бонгард был отменным сценаристом и слово в слово описал разговор, который произошел у меня с Кимом. И меня через неделю действительно приняли на работу. Когда на дирекции зачли отдельское прошение о моем зачислении, и тогдашний директор института Примаков хмуро процедил, что мест и так мало, разбрасываться нельзя и нужно брать современщиков, Георгий Фёдорович подал свой хрипловатый голос: «Я думаю, что в виде исключения можно Мещерякова взять». Вот эта советская формула — в виде исключения — и сработала. В 1979 году меня взяли младшим научным сотрудником в отдел Древнего Востока.
Отдел этот был чрезвычайно интересным объединением. Были блестящие специалисты, были и не очень блестящие, но в целом это была другая среда. Приведу показательную историю. Квоты на прием в партию спускались сверху, отделы бились за эти квоты. Вот и отделу Древнего Востока дали такую квоту, но никто из молодых сотрудников в партию не пошел, все отказались. Мне тоже предлагали, и я тоже отказался. Это очень характерный момент, он многое говорит о качестве человеческого материала людей, которые занимались древностью.
В институте, конечно, были японисты, но почти все они имели дело с современной Японией. Из исключений можно назвать, скажем, Татьяну Петровну Григорьеву — она занималась литературой, традиционной культурой и философией. Александр Аркадьевич Долин неутомимо переводил старую японскую поэзию. Если говорить о других институциях, то в Библиотеке иностранной литературы трудилась блестящая исследовательница древних текстов Людмила Михайловна Ермакова. В Ленинграде средневековой литературой занимались Владислав Никонорович Горегляд и Георгий Георгиевич Свиридов, но все равно это были единицы, на всю страну, по сути, пять или шесть человек.
— Как в дальнейшем складывались ваши занятия?

— Сначала я продолжил то, чем занимался и раньше. При написании диссертации у меня был основной источник, он называется «Нихон рёики». Это буддийские легенды, сочинение рубежа VIII и IX веков. Этот текст у меня был переведен в качестве приложения к диссертации, потом я его доработал, добавил кое-что еще из других источников, и в 1984 году вышла книга под названием «Японские легенды о чудесах». Правильнее было бы назвать ее «Древнеяпонские буддийские легенды», но слово «буддизм» без обязательного эпитета «реакционный» тогда не употреблялось. Директором издательства «Восточная литература» был тогда Олег Константинович Дрейер. Это был человек интеллигентный, симпатичный и ушлый. Хотя в послужном списке Дрейера значилась и работа в Главлите, то есть в цензуре, он старался не запрещать книги, а издавать их — и он действительно напечатал много хороших рукописей, которые по идеологическим и вкусовым фобиям не принимали другие издательства. Дрейер посмотрел мою рукопись, заинтересовался и решил издать, хотя прекрасно понимал, что речь шла о буддизме, а слово «чудеса» здесь вторично. Книгу издали тиражом семьдесят тысяч экземпляров. Ни одна из моих книг таким тиражом больше никогда не выходила. При том, что заявка была на сто восемьдесят тысяч. Вы прекрасно знаете, как тогда это работало — темплан, заявки от книжных магазинов, лимиты на бумагу.
Книга вышла, но в магазинах ее было невозможно найти. Книжные перекупщики просили за нее четыре или пять номиналов. Я этим, признаюсь, гордился. Один мои приятель просто утащил ее из библиотеки, и я его за это не осуждал. Тяга к Японии и, конечно, к религии, к буддизму, вообще ко всему душевному и духовному тогда была огромной, именно поэтому книга так хорошо разошлась.
— При этом вы работали в академическом институте за скромную зарплату и никуда не ездили, в Японию тем более. Перебивались переводами?
— Зарплата была вовсе не нищенская, я получал сто шестьдесят рублей. Моя мама, которая работала литературным редактором в журнале «Коммунист вооруженных сил», получала сто двадцать, а это было выше средней зарплаты. Другое дело, что на эти деньги не так просто было что-нибудь купить.
У мамы на работе время от времени устраивали так называемые «ярмарки», там продавали дефицитные товары. В Академии наук, во всяком случае, в Институте востоковедения, ничего подобного не было. Вот мама и прикупала мне что-нибудь красивое. Помню финский спортивный костюм, который я таскал долгие годы. Я уже женился, жил отдельно, и когда у меня сломался холодильник, нового было просто не купить. Мама загодя лет пять простояла в своей военной очереди, получила холодильник, а я отдал ей деньги. Куда было тратить деньги? Ничего ведь просто так не купишь, а в очередях я не стоял. Поэтому деньги у меня оставались.
Что до научных поездок в Японию, то туда ездили только сотрудники, которые занимались современностью. Я попадал в Японию по другой линии, потому что подрабатывал переводчиком с профсоюзами. Это была сравнительно безответственная работа, потому что ни о каких серьезных вопросах там речи не шло. Приезжали японские профсоюзники, их приглашали в ВЦСПС, беседовали, потом они ездили по стране. Им показывали достопримечательности, они посещали заводы. Приезжали люди, которые заведомо были настроены положительно по отношению к Советскому Союзу. Никакой ругани, никаких острых тем. Японцы присылали большие группы, бывало по двадцать, по тридцать человек. Работа была очень тяжелая, по шестнадцать часов в сутки. Собачья работа, если честно. А платили за это смешно. Три рубля в день, а если повезет — то пять. Правда, кормили бесплатно.
Из Советского Союза в Японию отправляли проверенных людей, по два или по три человека. Меня ВЦСПС никогда бы в Японию не послал, потому что у них были свои прикормленные люди. Но туда поступил на работу мой знакомец Саша, он был немного младше меня. Мы как-то обслуживали одну делегацию. Ему выпало переводить, и он «поплыл». Я стал переводить за него, и все прошло нормально. Он был мне очень благодарен, и время от времени подкидывал мне поездки в Японию.
Обычно это были поездки на шесть или семь дней. Тоже тяжелая работенка, но я всегда выговаривал себе два часа на книжный магазин, и профсоюзники обычно шли мне навстречу. Основу своей японистической библиотеки я как раз и собрал в этих командировках.
Люди в делегациях попадались разные. Обычно один из Москвы, который уже бывал за границей и был в «обойме», а другой откуда-то из провинции, за границей оказавшийся зачастую вообще впервые. Это была такая награда за трудовые и иные заслуги.
Хорошо помню одну рязанскую доярку, Раечку — женщина, которая с коровами была на «ты», а тут попала в Японию. И она мне все время говорила: Саша, я на ужин не пойду. Я спрашиваю, почему. А она говорит: меня тошнит от этой морской гадости. После моих уговоров шла на ужин и давилась.
Была еще одна женщина, которая, выходя на улицу в Токио, дрожала крупной дрожью. Я спрашиваю, что случилось, а она твердит только одно: сейчас против меня устроят провокацию! Такой был у нее неподдельный страх перед мировым империализмом.
— Какие-то научные контакты у вас были?
— А как их было заводить? В Японии я общался с профсоюзными деятелями, а не с учеными. Но, конечно, все равно очень хотелось понять, как мои работы оценивает международное научное сообщество.
Дед моей первой жены, Александр Александрович Конюс, был известным экономистом. Это был замечательный человек, георгиевский кавалер. В свое время он работал у Кондратьева, потом долгое время был без работы, судьба у него сложилась непросто, хотя он и не сидел. Я у него очень многому научился по отношению к жизни. Познакомился я с ним так. Мы поехали на дачу моей будущей жены, пошли на пруд купаться. И там увидели Александра Александровича, которому было уже семьдесят шесть лет. Он стоял в воде совершенно неподвижно. Я с юношеским нахальством говорю ему: ну что, Александр Александрович, вода-то холодная, боитесь окунуться? Он усмехнулся и смущенно ответил: знаете, Александр Николаевич (он всегда обращался ко мне по имени и отчеству, несмотря на огромную разницу в возрасте), если долго стоишь на одном месте, рыбки к тебе привыкают и начинают касаться ног, а это страшно приятно. В семьдесят шесть лет такое любопытство к жизни и такая непосредственность чувств встречаются нечасто. Мне вот уже тоже семьдесят пять стукнуло, но я стараюсь удержать в себе способность удивляться.
И вот Александр Александрович, человек, который пережил две мировых войны и революцию, меня подучил. Он сказал: писать статью в иностранный журнал напрямую хлопотно, первый отдел должен завизировать и все такое. Поэтому я пишу статью, а оформляю ее как письмо в журнал: уважаемый редактор, у меня по такой-то проблеме есть такие-то соображения. А дальше уже они сами спрашивают, не против ли вы, чтобы мы ваше письмо опубликовали. А на публикацию письма никакой визы получать не надо.
Я так и поступил. Прочитал книгу американского япониста Росса Бендера, у меня появились возражения, и я написал в лучший международный японистический журнал. Он называется Monumenta Nipponica и издается в Японии на английском языке. В общем, я написал редактору, изложил свою позицию, и мне ответили с вопросом: согласен ли я на публикацию этого письма? Я, конечно, согласился. Потом я опубликовал еще одну статью в Японии, тоже на английском языке, а дальше, если честно, с этими зарубежными публикациями более или менее завязал. Я получил то, что мне было нужно: понял, что нахожусь на определенном уровне. А дальше вся эта канитель с переводами на английский язык и прочее мне стала неинтересна. Во многом это, конечно, неправильная позиция. Но так уж я устроен. Хотите читать — читайте по-русски. Мне, конечно, важно понимать, что есть признание в международных профессиональных кругах. Но специально стараться ради этого и прилагать дополнительные усилия мне было скучно.

— Значит, после развала СССР начались контакты, конференции и тому подобное?
— Да, тогда все это началось в полном объеме. А вот книги мои на японский язык не переводили.
— Почему?
— Это связано с несколькими обстоятельствами. Например, книги американских японистов издаются в Японии сравнительно легко, а выпустить перевод с русского крайне сложно. Японские японисты русского языка не знают, а японским русистам переводить труды по японистике крайне сложно. Но случайные радости все равно случаются. Вот я иду по кампусу Токийского университета, подходит незнакомый японец и спрашивает: здравствуйте, вы Мещеряков-сан? Я отвечаю: да. А он говорит: ваша книга про императора Мэйдзи — лучшая из всего, что я читал по этой тематике. И идет себе дальше.
— Он читал ее по-русски?
— Да, по-русски. Он знал русский язык и читал в оригинале.
— Вы ведь в какой-то момент отошли от древности и переключились на более новую японскую историю.
— Да. В 2000 году я работал в Международном институте японской культуры в Киото, переводил древнюю хронику. И в одно прекрасное утро вдруг вспомнил, что у меня еще с молодости была такая идея: пройти японскую историю от начала до конца и получить целостную картину. Идея хорошая, но я застрял на древности на четверть века, а мечту свою не исполнил и плохо знаю, что было «потом». К этому моменту я дошел до уровня, который здесь, в России, мало кому интересен.
— Начинаешь входить в такие детали, что становишься интересен максимум десятку людей?
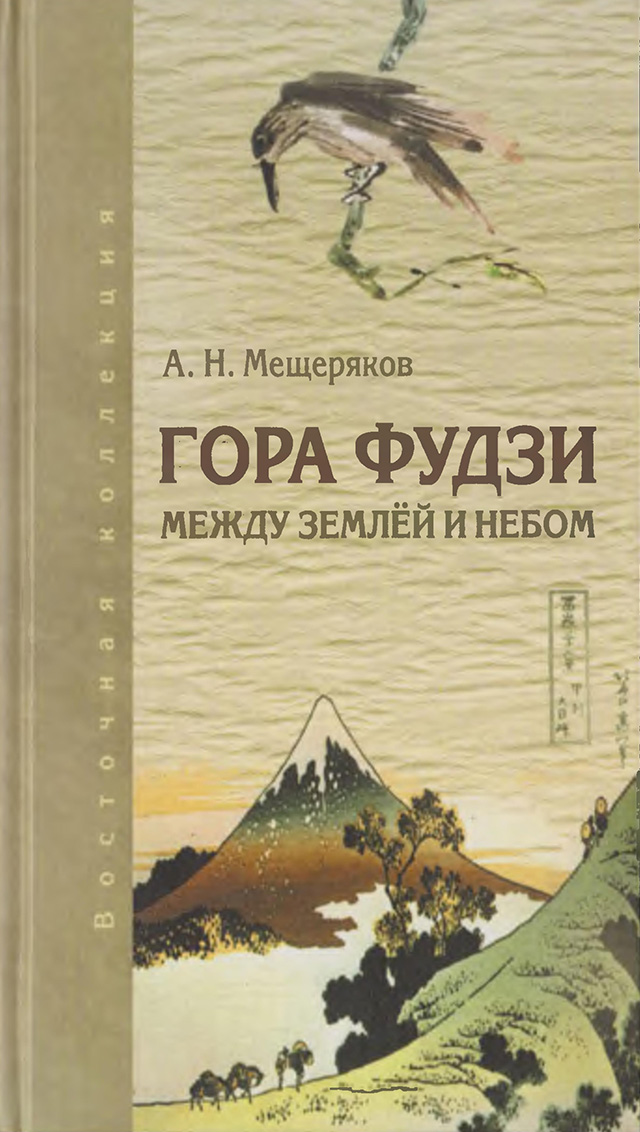
— Именно так. Историк обычно сосредотачивается на одном периоде, это нормально. Многие на этом и останавливаются, уходят в детали. Эти детали чрезвычайно важны, но при этом часто забывается о необходимости целостного взгляда, и в итоге явление остается вещью в себе. Мне же хотелось понять динамику: было так, стало этак, потом вот так… В общем, я написал серию работ по древности, а дальше стал реализовывать свою мечту — прослеживать какое-то явление от начала до конца. Например, в какой-то момент мне вдруг пришло в голову: ну вот есть Фудзияма, я ее видел, японцы эту гору очень чтут, а было ли так всегда? И тогда я проследил историю восприятия Фудзи от древности до сегодняшнего дня. Оказалось, что в разные периоды отношение к этой горе было абсолютно разным, и Фудзи прекратилась в национальный символ только в двадцатом веке. Получилась книга «Гора Фудзи: между землей и небом». Или вот еще. Все привыкли думать, что японцы как-то особенно чувствительны к природе. Вот я и посмотрел, как это получилось. Такое отношение возникло потому, что первичный интерес к природе был связан со страхом. Тайфуны, землетрясения — это воспринималось как знак того, что император управляет дурно, что в обществе недостаточно гуманности. Отсюда формировалось отношение к природе как к силе, на которую смотрят с восхищением, но и со страхом. Если происходит что-то аномальное, значит, с нами что-то не так. И тогда принимались меры. Молились, выпускали заключенных из тюрем, запрещали убивать животных. Наблюдали за мельчайшими изменениями в окружающей среде с большим вниманием. Со временем это переросло в эстетическое отношение к природе, потому что фокус внимания сохранялся, но смысл его постепенно менялся.
— Вы считаете, что этот эстетизм был связан с анимизмом?
— С анимизмом, с обожествлением природы. Первично именно это. А дальше это постепенно переходит в эстетику, где самих божеств уже как бы и нет. Но внимание все время было зафиксировано на одном и том же объекте, и оно перерастает в эстетическое освоение. Возьмите японские сады. Вот говорят: как изящно и красиво, а изначально сады устраивали потому, что боялись дикой природы. Идея была такая: мы создадим на ограниченном пространстве модель идеальной, замиренной природы, чтобы сюда ни один злой дух не проник. Первые руководства по садовому искусству прямо говорили: если поставишь камень не туда, куда нужно, это принесет несчастье тебе и твоей семье. А дальше это постепенно превращается просто в «делать красиво», и современное садово-парковое искусство уже никакого отношения к злым духам не имеет. Но красота осталась, она работает сама по себе.
— То есть это эстетика, построенная вовсе не на гуманизме, а скорее наоборот.
— Сад — это крепость, защищенное пространство, средство от страха. Страх — великий стимул. Япония и модернизироваться начала прежде всего из страха превратиться в западную колонию. Отсюда установка: мы должны сделать все, чтобы стать сильными. А чтобы стать сильными, нужны разные вещи. Японский подход был комплексным. Нужно срочно поднимать образовательный уровень населения, именно поэтому в 1872 году вводится всеобщее обязательное начальное образование. Нужно развивать науку — иначе Запад нас завоюет. С той же целью нужно как следует вооружиться. Но потом оборона переросла в нападение. Понятие великой державы в конце XIX века — это страна, обладающая колониями. И дальше все пошло именно по этому пути. Это был тупик. Колониализм — это бремя. Аппетиты растут, появляется поэтическое восприятие истории, пространства, просторов, но потом за это приходится платить. Сначала присоединили Тайвань, потом южный Сахалин, потом Корею. Кончилось известно чем — жестоким поражением во Второй мировой войне.
— Это была тоска островного жителя по территории, по пространству, которого нет?
— Отчасти, но в значительной степени этому просто научились у Запада. На кого равняться? Великобритания, над которой не заходит солнце. Франция с ее многочисленными колониями. Россия с ее пространствами. Возникает чисто поэтическое представление о том, что огромная территория — это здорово. Ради этого пришлось ломать традиционный хронотоп, а к этому японцы были совершенно не готовы. Они не привыкли действовать в больших пространствах и не умели вести трезвые геополитические расчеты.
Если в первой войне с Китаем (1894–1895) и с Россией все было более или менее просчитано, то дальше начинается просто безумие. В 1937 году начинается большая война с Китаем, в которой Япония полностью увязла. Тем не менее, в 1941 году объявляется война Соединенным Штатам и Великобритании (вместе с британскими доминионами это фактически половина мира) — при полном отсутствии ресурсов и каких-либо реальных возможностей. Помимо прочего, японцами двигало еще и сильное чувство обиды. Они считали так: Китай и Россию победили, Корею присоединили, значит, мы великая держава. Мы участвовали в Первой мировой войне на стороне Антанты. Дальше Япония участвует в Версальской конференции на правах победителя. Создается Лига наций, Япония предлагает включить в устав пункт о расовом равенстве и получает отказ. Это был страшный удар. Они думали: мы уже большие, мы теперь свои. А оказалось, что нет. И со второй половины двадцатых годов те люди, которые еще недавно смотрели на Запад с обожанием, начинают превращаться в отпетых националистов. Логика такая: мы хотели быть с вами в одной компании, а вы нас туда не пустили.
— И начинаются паназиатские идеи.
— Они существовали и раньше, но не пользовались особой популярностью. А вот в тридцатые годы паназиатизм становится заметным и влиятельным.
— При этом отношение к китайцам и корейцам остается очень сложным, если не сказать враждебным.
— Невозможно говорить, что все японцы такие или сякие. Я бы не говорил про враждебность, но какие-то предрассудки остаются. Но есть и люди, которые вообще выступают против употребления слова «японцы». Во-первых, «японцы» — очень разные люди, их нельзя стричь под одну гребенку. Во-вторых, в Японии постоянно живет немало иностранцев. Поэтому нужно говорить так: люди, которые живут в стране, которая называется Японией. Мыслящие таким образом японцы есть, но думаю, что их меньшинство. Сейчас идентичность человека через понятие «нация» потихоньку ослабевает. Всё, что имеет начало, имеет и конец. Тем не менее, понятие «нация» продолжает работать.
Сам я считаю себя абсолютно русским человеком. Я не то чтобы этим горжусь или не горжусь, просто так себя ощущаю. Есть русские, а есть японцы, все мы равны, и хорошо, что мы разные. Это делает мир интересным. Но это чувство национального принесло столько бед, потому что очень легко сделать следующий шаг: я — японец, значит, я уникален.
— И раз я уникальный, значит, я лучше всех.
— Именно. Потому что понятие нации в очень большой степени формируется властью, и власть слишком часто этим пользуется. До революции Мэйдзи никакой японской нации не существовало. Никому не могло прийти в голову, что самурай и крестьянин равны хоть по какому-то параметру. В данном случае национальному. Нация целенаправленно формируется в период Мэйдзи. Именно тогда возникает задача создать единую нацию. Зачем? Чтобы никто нас не покорил. Ни англичане, ни американцы, ни русские. Нужно обеспечить единство, дать отпор и выстоять.
— Давайте теперь поговорим еще об одном вашем амплуа, совершенно подвижническом — амплуа переводчика. На мой взгляд, выполненный при вашем участии коллективный перевод романа «Столица в огне» — это в своем роде подвиг. Сколько вы переводили эту книгу все вместе?

— Мой друг, блестящий славист Нумано Мицуёси, сказал мне: замечательный писатель Кага Отохико очень хочет, чтобы его роман «Столица в огне» перевели на русский. Именно на русский, потому что Кага начал писать под влиянием Толстого и Достоевского. На другие европейские языки роман не переводился — слишком большая работа. Он ведь длиннее «Войны и мира». А повествует он о Японии 1930–1940-х годов — о том, как в это стыдное для нынешних японцев милитаристское время ощущали себя простые японцы.
Я Нумано очень доверяю. Я прочел роман, он и вправду оказался блестящим, и я решил, что дело стоящее. Но автору было за восемьдесят, и он просил, чтобы перевод вышел, пока он жив. Я познакомился с ним, и он мне страшно понравился. Такое ощущение, что мы были знакомы всю жизнь. Работу нужно было сделать быстро. Я не считаю правильным раздирать произведение между несколькими переводчиками, но это был особый случай. Так что пришлось разделить текст на части и сказать переводчикам (почти все они — мои ученики): на работу отводится ровно год. Не два, не три, а год. Переводчиков было семь человек. Через год я получил весь перевод, а потом еще год сводил все воедино. Но главное, что мы успели: книгу удалось издать, пока автор был жив. Мне кажется, что и книга замечательная, и перевод получился неплохой. Но больше всего меня радует, что мы сделали подарок хорошему человеку.
— Это же по сути русский роман по форме.
— Да, это очень русский роман. Кага говорил мне, что только русские могут понять его. Я спросил: почему? «Потому что Россия породила Толстого и Достоевского». — «Русские теперь другие», — сказал я. «Это вам только кажется!» Как мне хочется, чтобы Кага оказался прав!
— А сегодня в Японии вообще пишут романы, исходя из европейских традиций — русской, американской, английской, французской? Или это уже совсем утрачено?
— Мне кажется, тут ситуация такая. Японское общество сегодня чрезвычайно благополучное. Проблемы, конечно, есть, но в целом оно очень благополучное и малоконфликтное. Продолжительность жизни — самая высокая в мире, преступность чрезвычайно низкая, войн нет, с голода никто не умирает. Для общества это хорошо, а для литературы плохо. О чем писать? Ну вот пишут: я пошел с девушкой в кафе, там пирожок был не такой вкусный, как давеча. Понятно, что и это может быть проблемой, но для литературы это, мягко говоря, убийственно.
Я не очень хорошо знаю текущую современную японскую литературу, но из того, что мне попадается и что мне рекомендуют, мне по-настоящему интересно тогда, когда автор пишет не о сегодняшней Японии, а о Японии прошлого. Там, где были социальные конфликты, где смерть подстерегала жизнь за каждым углом. Когда общество очень сытое, люди, конечно, начинают копаться в себе, в своих чувствах, эмоциях. Это может быть тонко сделано, но лично меня это редко задевает. Еще и потому, что в нынешней Японии (как, впрочем, и во всем остальном «цивилизованном» мире) стало мало чудаков, людей с «вывертом». Всеобщее образование по одним и тем же учебникам, уничтожение региональных культур, диалектов и говоров, проживание в «человейниках» этому не способствуют.
— Я вообще начал знакомиться с японской литературой довольно наивно. Первая японская книга, которая на меня сильно подействовала, произвела ощущение, что вот это и есть подлинная японская литература, была написана Кобо Абэ. Я в нее буквально влюбился. А потом мне объяснили: нет, это уже в значительной степени европеизированная литература. И я, честно говоря, был страшно расстроен.
— Я вас немножко перенастрою, потому что считаю, что суждение об Абэ Кобо как о европейском писателе неверно. Посмотрите, что он делает. Он помещает человека в ситуацию полной изоляции. В песках, в ящике, под маской. Человек оказывается заперт. И дальше, когда он размышляет о том о сем, он на протяжении всего повествования практически не взаимодействует с внешним миром. Это, на мой взгляд, очень по-японски. Ведь нынешние японцы — это очень одинокие люди.
— Но ведь современная японская и китайская литература, которую мы читаем, прошли через горнило европейской, и в том числе русской, культуры. Японские писатели ХХ века ломали прежние поэтики, прежние технологии письма. В этом смысле это уже всемирная литература.
— Именно поэтому она и находит отклик в нашем мире.
— Возможна ли вообще сегодня самобытная культура? Закрытая культура, не связанная с внешним миром?
— Самобытная возможна, а закрытая — нет. Для меня прелесть мира заключается в его разнообразии. Если все становится одинаковым, если везде один и тот же «Макдоналдс», то возникает вопрос: зачем тогда вообще куда-то ездить, зачем что-то смотреть, если везде одно и то же? Поэтому те японские писатели, которые полностью ориентируются на западную литературу, для меня не слишком интересны. Кто сегодня самый популярный японский писатель? Конечно, Мураками. Он пишет по-японски, но опросы показывают, что многие американцы даже не знают, что он японец. Глобалистская литература, может быть, и демократична, но она делает мир менее разнообразным.
Вообще любая демократизация обычно сопровождается снижением среднего уровня. Это, конечно, когнитивный диссонанс. Я, безусловно, за демократию, но при этом приходится признавать, что уровень часто падает. Может быть, я плохо знаю современную американскую литературу, но раньше там действовали фигуры совершенно иного масштаба.
Жить в полной изоляции сегодня невозможно, но важно и другое. Стремление полностью избавиться от национального, отказаться от собственной культурной почвы — это тоже путь в никуда. Но если ты пишешь честно и без манифестов, национальное все равно проявится. Ты останешься японцем, русским, американцем. Избавиться от национального так же трудно, как и приобрести его. Я против оголтелой глобализации. Когда любая идея доводится до крайности, она начинает работать против себя и становится абсурдом. Здесь, как и везде, важен здравый смысл. Я за здравый смысл.
— У меня последний вопрос. Вы не только замечательный японист и переводчик, но и писатель. Повлияла ли на вашу прозу ваша специальность, та литература, с которой вы работаете?
— Я думаю, что повлияла. В европейской литературе, при всех разговорах о новых формах и новых видениях, все равно сохраняется ощущение, что роман — это главное, а все остальное вторично, подножный корм. Были, конечно, люди, которые с этим спорили, но если говорить о мейнстриме, то он устроен именно так. А вот японское дзуйхицу, то, что переводят как «вслед за кистью», мне с самого начала страшно понравилось. У меня есть и сюжетная проза, но по душевному устройству мне ближе именно такие фрагментарные формы. Я называю их «лоскутами», Розанов называл их «опавшими листьями». Он один из немногих русских писателей, кто по-настоящему этим жанром увлекался.
Жизнь, как мы ее проживаем, как правило, не имеет сюжета, а роман этот сюжет создает. Вся сюжетная проза в этом смысле искусственна — на то оно и искусство. Но можно делать и по-другому. Японцы часто исходили из того, что жизнь состоит из фрагментов и во многом бессюжетна, и в этом смысле такая форма оказывается ближе к реальной жизни. Это не лучше и не хуже, просто иначе.
Когда я прочитал «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон и «Записки на досуге» Ёсиды Канэёси, это произвело на меня очень сильное впечатление. Я подумал, а чем мы хуже, нам тоже есть что сказать в этом жанре, в этом модусе. Так что да, влияние здесь, безусловно, прямое.
— А ваша новая книга такая же?
— Она вышла на прошлой неделе в издательстве «Лингвистика». Мне очень нравится название, которое я для нее придумал: «Бывалые люди в небывалой стране», чем-то напоминает дзэнские парадоксы. Я рассказываю в этой книге как раз про людей с вывертом, мешаю смешное с трагическим. Словом, работаю под девизом «смех сквозь слезы». Люди у нас действительно бывалые, а страна при этом небывалая. Только не нужно думать, что другие страны небывалые в меньшей степени.