Заповедник исповеданий
Интервью с Сергеем Михайловым — исследователем подмосковного старообрядчества
Этнолог Сергей Михайлов более тридцати лет изучает различные христианские общины России, особое внимание в последние годы уделяя подмосковным старообрядцам. Филипп Никитин поговорил с Сергеем Сергеевичем об истории околостоличного «сектантства», о сложностях и радостях полевых исследований и о том, что почитать человеку, ничего пока не знающему о староверах.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Сергей Михайлов. Очерки по истории старообрядчества Подмосковья (восток области): XIX — середина XX века. М.: Квадрига, 2024
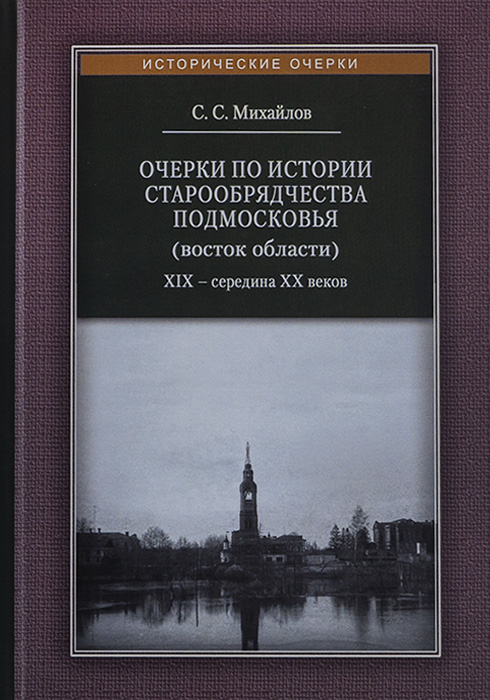
— Сергей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе и своих научных интересах.
— Я родился в 1970 году, в Москве. Интерес к истории, в том числе к истории своего региона, у меня был со школьных времен. В 1987 году я с первого раза поступил на вечернее отделение исторического факультета МГУ, который закончил в 1994-м. Я всегда благодарю Бога, что он привел меня именно на кафедру этнологии (вечерники распределялись после третьего курса), что я стал не «чистым» историком, а всю сознательную профессиональную жизнь работаю на стыке дисциплин. С конца 1994 года я стал заниматься старообрядчеством Московской области, а также некоторых уголков, вошедших в 1960 году в состав столицы. Здесь сфера моих интересов ограничивается только историей общин и течений старообрядчества, которые традиционно именуются термином «согласие». В настоящее время я собираю сведения и готовлю работы только по истории евангельских обществ востока Подмосковья, предшествовавшим им «сектантским» общинам региона (молокане, хлысты, субботники), а также по старообрядцам, не приемлющим священство, то есть беспоповцам. Сознательно ограничиваюсь только темами, связанными с историей Церкви.
— В магазинах я периодически вижу ваши книги. Их немало, и они разные. Сколько всего книг вы написали?
— Если включить сюда несколько буклетов, книги в виде брошюр всего на несколько десятков страниц, получится 54, из коих восемь в соавторстве с коллегами. Знаю, что некоторые мои книги по истории старообрядчества, вышедшие в издательстве «Квадрига», в этом году напечатаны вторым изданием. Как я понимаю сейчас, уже будучи сознательным верующим христианином, новые публикации, будь то книги или статьи, посвященные истории Церкви, пусть и в локальном варианте, в границах отдельного региона или его части, прошлое поместных общин, должны выполнять свою роль для самой Церкви.
— В аннотации к вашей книге Восточное Подмосковье представлено как уникальный регион. В чем заключается эта уникальность?
— Если быть честным, то любой регион уникален, в нем есть то, чего нет в других местах. Но есть территории, которые весьма выделяются в историко-культурном плане. Восточное Подмосковье как раз относится к их числу. До 1917 года это пространство административно входило в состав трех губерний — Московской, Рязанской и Владимирской, но границы, проведенные во время реформы императрицы Екатерины на рубеже 1770–1780-х тут особой роли не играли. Здесь можно много говорить о таком интереснейшем крае, как Мещера, расположенном в восточной части Московской, северной части Рязанской (левый берег Оки) и южной части Владимирской областей. Она более известна нам благодаря произведениям Паустовского, Пришвина, ряда других авторов, большей частью описывавших местную природу. Однако Мещерский край — это прежде всего самобытный историко-этнографический регион, места проживания древнего восточно-финского народа мещера (ветвь мордвы-эрзя), давно уже вошедшего в состав русского этноса. Мещерские глухомани, а это край лесов и болот, только столетии в XV были христианизированы, да и то большей частью внешне. Вплоть до ХХ века здесь сохранялся свой самобытный мир, который практически не был толком исследован. Восток Подмосковья — это часть чистой Мещеры (Шатурский, Егорьевский, частично Орехово-Зуевский районы) или пограничные местности. А на границе культур, как мы знаем, рождается самое интересное.
Восточное Подмосковье весьма важно для нас и в плане христианской истории. Помимо официального православия, которое начало утверждаться здесь только в веке XII, а в прежних глухих лесных и заболоченных местах вообще появилось, как говорят некоторые исследователи, в XIV, и это мы еще не берем Шатурскую и Егорьевскую Мещеру, здесь было весьма распространено старообрядчество. Здесь находилось несколько самобытных старообрядческих регионов — Гуслицы, Патриаршина (обе — в нынешнем Орехово-Зуевском районе), Вохна (Павлово-Посадский район), Гжель (Раменский район), а также безымянные местности на территории современных Воскресенского, Егорьевского и Коломенского районов.
В плане конфессиональной истории и в том числе локальной предыстории евангельского движения, на мой взгляд, особо интересен запад прежнего Коломенского уезда Московской губернии, оказавшийся после советских перекроек границ преимущественно в Озерском и Ступинском районах. Хотя официальные источники, а именно архивные документы фондов различных дореволюционных духовного и светских ведомств здесь весьма скупы на информацию, но по полевым материалам и другим данным видно, что прежде здесь был чуть ли не заповедник различных исповеданий, небольшие общества которых были вкраплены в общий массив православного населения. Здесь были и старообрядцы разных толков (согласий), преимущественно беспоповцы, и представители старого русского «сектантства». Из таковых здесь нам известны хлысты, молокане, субботники, причем только последние несколько раз попадаются на страницах архивных документов, а про хлыстов и молокан я узнавал лишь из полевых источников. Старообрядцы этого уголка принадлежали к таким направлениям, как федосеевцы, филипповцы, странники (бегуны), спасовцы. Именно здесь к 1780 году появился такой толк, как «Бабушкина вера», или «бабушкины», «бабушкино согласие», вышедшее из среды старообрядцев-беспоповцев, федосеевцев, но уже на раннем этапе начавшее испытывать влияние других толков, таких как радикальных по своим воззрениям странников (непризнание паспортов и тому подобное), а также хлыстов и отчасти молокан. Далее — «бабушкины», несколько распространившись географически на некоторые уголки Московской и смежной с ней губерний, постепенно эволюционировали в сторону сектантства, и многие их описания, которые мы находим в архивах и старой периодике, характеризуют их уже не как старообрядцев, а как «хлыстовско-бабушкинскую секту».
— В книге вы ссылаетесь, в частности, на рассказы старожилов. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте таких интервью.
— Моя полевая работа заключается в однодневных вылазках и не привязана к какому-либо сезону. Успех в общении с носителем информации зависит от того, как человек расположен, хочет ли он общаться. Люди есть люди, и работа с ними всегда непростая. Когда летом приезжают исследователи в деревню, к старикам, а к тем с городов привезли внуков на лето, тем надо работать на огородах и у которых куча других забот, понятно, что часто люди отказываются от общения: если и идут на контакт, то просто что-то рассказывают, чтобы удовлетворить любопытство ученых гостей, чаще всего в это время думая все о тех же внуках, о сорняках на огороде. Старики знают и помнят очень много, могут весьма много поведать, но, чтобы человек стал делиться с тобой информацией, надо чтобы он был соответствующе настроен. Если первое общение прошло хорошо, а собеседнику есть что еще рассказать, то далее можно договариваться о новых встречах.
Со многими старожилами мы потом поддерживали отношения годами, они, узнавая меня, со временем рассказывали то, что даже при самом благоприятном раскладе не поведали бы при первой, второй, третьей встречах. Через них выходил на других людей, кто также мог сообщить немало важного. И конечно же, работа с людьми всегда интересна, во многом поучительна. Пока было живо прежнее поколение стариков, помимо нужной историко-этнографической информации я всегда открывал для себя много поучительного, когда беседа из «вопросов по теме» переходила в рассказ о жизни. Я сталкивался с настоящей народной мудростью, которая, к сожалению, почти не воспроизводится у нынешних поколений людей старшего возраста. Большинство этих людей были всю жизнь верующими, что давало много важного, поучительного с точки зрения верующего христианина. Но с полевой работой всегда надо поспешать. Если архивные документы, старая периодика, книги сохраняются и могут быть доступны в любой момент, то старожилы имеют обыкновение отходить в Вечность, унося с собой и бесценные сведения. Восполнить потом это уже никак не удастся.

— В своей работе вы неоднократно упоминаете баптистов и пятидесятников. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что эти христиане попали в книгу, в названии которой присутствует старообрядчество.
— А все взаимосвязано. Кстати, очень часто, общаясь с представителями верующих семей баптистов и пятидесятников, принадлежащих к своим исповеданиям не одно поколение, доводится слышать, что их предки — как правило, на уровне поколения дедов или прадедов — были из старообрядцев, причем часто поясняют, что из беспоповцев. К сожалению, собеседники уже не могут пояснить, какого именно согласия. Один мой коллега, десятилетиями изучающий старообрядчество в Нижегородском крае, на знаменитом Керженце, сам имеющий старообрядческие корни, рассказывал, что в его семье были представители такого направления, как немоляки, весьма малочисленного беспоповского толка, стоявшего уже ближе к русскому сектантству. По его словам, в ХХ столетии, по крайней мере в их местности, эта община почти полностью ушла в евангельское движение.
Под подмосковным Павловским Посадом, в нынешнем поселке Большие Дворы, в середине ХХ века было много и пятидесятников, и евангельских христиан-трезвенников. К сведению, вторые постепенно переходили в учение первых. По крайней мере, у части местных коренных пятидесятников были старообрядческие корни. На каком-то этапе в это исповедание перешли немногочисленные местные беспоповцы — какого именно согласия, мы сейчас уже не выясним: прежние деревни Большой Двор и Андроново, составляющие основу современного поселка, были населены преимущественно старообрядцами-поповцами. Да и с поповцами тоже есть немало связи — говорю только за свой подопечный регион. В 1907 году в деревне Елкино Коломенского уезда (сейчас — Воскресенский район) в баптизм перешел местный белокриницкий священник Фома Павлович Казаков с частью своей паствы.
Я пришел к выводу, что во многих уголках России, где в ХХ столетии традиционно соседствовали старообрядцы, причем именно беспоповцы, а также баптисты и пятидесятники, историю последних необходимо изучать, пытаясь искать и старообрядческие корни у коренных семей местных евангельских общин.
— Когда я прочитал название одной из глав, «Старообрядческая община деревни Исаково, Бронницкого уезда — от спасовцев к белокриницким», я вспомнил вышедшую в прошлом году книгу «Запрещенное согласие: неокружническое движение в истории старообрядческой Белокриницкой иерархии». Расскажите, пожалуйста, об этой иерархии. И что можете сказать об этой книге?
— Вопрос с Белокриницкой иерархией и неокружниками — «запрещенным согласием», согласно терминологии составителей сборника, — более чем интересный. Белокриницкое согласие — крупнейшее направление старообрядчества, его центр находится в Москве, на Рогожском кладбище. С 1988 года во главе этой конфессии, официально ныне именуемой РПСЦ — Русская Православная Старообрядческая Церковь, — стоит митрополит (прежде — архиепископ). Есть еще русская старообрядческая митрополия белокриницкого согласия в Румынии, куда старообрядцы в свое время ушли от религиозных гонений в Российской империи.
Прежде старообрядцы-поповцы, поскольку после никоновской реформы у них не оказалось ни одного епископа, благодаря которому можно было бы продолжать свою иерархию и ставить служителей, переманивали священников из официальной церкви, которых, разумеется, было мало и каждый из которых обслуживал весьма большую территорию. Параллельно велись поиски епископа, благодаря которому можно было бы создать свою иерархию, устраивались экспедиции на Христианский Восток в надежде найти там «неповрежденную Церковь». Поиски были тщетными. Наконец в 1846 году старообрядческим посыльным удалось найти в Стамбуле отстраненного от кафедры босно-сараевского митрополита Амвросия, которого удалось уговорить перейти в старообрядчество. Его перевезли в местечко Белая Криница в Северной Буковине, находившейся тогда в Австро-Венгрии, в одно из поселений русских зарубежных старообрядцев, где его и перевели в их веру. Благодаря дипломатическому вмешательству российских властей Амвросия вскоре арестовали, но он успел рукоположить епископов, через которых и пошла иерархия, названная по месту своего возникновения Белокриницкой. Старообрядцы других согласий до сих пор нередко именуют эту иерархию «австрийской», по политической принадлежности территории, где произошло ее возникновение, а самих белокринишников — «австрийцами».
В 1862 году на Рогожском кладбище, якобы дабы упорядочить представления адептов этого исповедания, свести их к чему-то единому, было принято «Окружное послание». Оно сразу же встретило большую оппозицию и привело к расколу белокриницкого мира на приемлющих и не приемлющих это самое «Окружное послание», «окружников» и «неокружников».
Неокружничество было весьма развито в подмосковном регионе, прежде всего в таких старообрядческих микрорегионах, как Гуслицы (юг Орехово-Зуевского района), Вохне (Павлово-Посадский район), Гжели (север Раменского района), в Коломне и ее окрестностях, на юго-востоке Московского уезда (с 1960 года в пределах Москвы). Общины неокружников существовали и в ряде других мест. Для старообрядчества региона, его истории это весьма важная, но сложная тема.
В сборник «Запрещенное согласие», в коем есть и мой материал про неокружников Коломны, вошли доклады круглого стола, прошедшего двумя годами ранее. Почему составители сборника дали ему такое название — «Запрещенное согласие»? Они сами представители белокриницкого мира, а там, в царстве наследников окружников, неокружническая тема весьма непопулярна. История неокружничества, в моем случае подмосковного, весьма важная для того, чтобы понимать прошлое самого белокриницкого старообрядчества.
Насколько понимаю, уже есть круг исследователей, кто обладает материалами по истории этого важного явления в истории старообрядчества. Есть надежда, что будут какие-то конференции с выходящими по их результатам сборниками материалов, и мероприятия эти станут регулярными. Тема, к сожалению, в том числе и благодаря такому подходу части белокриницкого общества, весьма слабо изученная. Я бы с удовольствием принял участие в неокружнических конференциях, благо материала за годы работы собрано достаточно большое количество.
— С какими трудностями вы сталкиваетесь в ходе изучения старообрядчества?
— Здесь особых трудностей нет, подмосковные старообрядцы — не тот тип старовера, который мы традиционно привыкли себе представлять. Это не Агафья Лыкова, не жители сибирской глубинки, это люди, которые уже во второй половине XIX столетия были подвергнуты сильному влиянию фабричной среды, были задействованы в отхожих промыслах и так далее. О том, что «не дадут из своей кружки напиться, домой переночевать к себе не впустят», здесь остались только воспоминания, хотя, по рассказам, в 1930–1950-х такое по деревням еще можно было наблюдать.
Но определенная трудность в полевой работе все же была. С 1980-х годов в старообрядческих местностях пошла волна грабежей молитвенных зданий, простых деревенских домов с целью похищения икон и прочих предметов старины. Одна из церквей, где когда-то, после войны, когда ее открыли по просьбам верующих, иконы были «от пола до потолка» — туда народ принес многое, что успели забрать из закрывавшихся деревенских моленных, — к началу 2000-х была ограблена аж тринадцать раз! По старообрядческим деревням фактически не осталось ни одного дома, куда бы не залезли. Понятно, что народ настороженно воспринимал чужаков, особенно если те начинали задавать вопросы о старообрядчестве, проявлять интерес к этой теме. Поэтому я всегда выходил на информантов через «своих» — меня привозили к старожилам, кто мог что-то рассказать, что-то помнил и знал, люди, которые хорошо знали меня, могли поручиться, что после общения ночью никто не залезет в дом. Мне было проще, поскольку исследуемые темы никак не были связаны ни с иконами, ни со старинными книгами, ни с какой-либо еще опасной темой.
— Кого из современных российских исследователей старообрядчества вы могли бы выделить?
— Вопрос и простой, и сложный. Сейчас много исследователей старообрядчества — как в Москве, Санкт-Петербурге, так и по регионам России. Есть целые центры, которые занимаются изучением старообрядчества. Еще с советской эпохи темой занимается Археографическая лаборатория МГУ во главе с Ириной Васильевной Поздеевой.
В феврале 2023 года отошел в Вечность Виктор Иванович Осипов, живший в весьма примечательном для истории старообрядчества городе — в Боровске Калужской области. Будучи сам коренным старообрядцем, он не один десяток лет возглавлял музей истории и культуры старообрядчества (в настоящее время — музей истории и культуры староверия), организовывал регулярные конференции «Старообрядчество: история, культура, современность», по материалам которых всегда выходили сборники докладов их участников, параллельно регулярно выходил и сборник научных статей с тем же названием. Вокруг Осипова и его конференций объединились фактически все серьезные исследователи старообрядчества с территории бывшего СССР.
Историков, искусствоведов, культурологов и представителей других дисциплин, занимающихся изучением старообрядчества, много, в том числе немало и тех из них, кто является прекрасным знатоком темы. Всех перечислить весьма сложно, и, чтобы никого не обидеть, кто окажется вне перечня избранных фамилий, не буду его приводить.
— Посоветуйте, пожалуйста, книги о старообрядчестве для тех, чьи знания в этой области ограничиваются протопопом Аввакумом.
— Если человек, ранее толком ничего не знавший о старообрядчестве, захочет ознакомиться с серьезной книгой об этом явлении, то для начала следует порекомендовать «Русское старообрядчество» Сергея Зеньковского. Если многие книги по старообрядчеству зачастую начинаются с реформы Никона, то здесь, что весьма важно, есть и предыстория будущего «древлеправославия». На ровном месте, как известно, подобные сложные явления не возникают.
— Сергей Сергеевич, какие книги, прочитанные в этом году, вам особенно запомнились?
— В последнее время прочитал книги «Злые новгородские ереси» Александра Манохина, «Секта хлыстов в СССР: очерки истории и документы» Андрея Бермана и после ознакомления с последней снова перечитал работу этого же автора «Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты».
Конечно же, как у любого верующего христианина, всегда под рукой Библия, которую стараюсь читать ежедневно, в основном выборочные отрывки. Христианину без такого чтения, как мы знаем, нельзя. Сейчас все больше понимаешь, что и исследовательская работа должна прежде всего строиться на христианских принципах. А одной из важнейших заповедей в работе историка, да и любого автора, является «Не лжесвидетельствуй», которая предостерегает нас не только о лжесвидетельствовании против ближнего, но, если подумать, против любой лжи, искажения, утаивания. На «правильной» с идеологической точки зрения истории, из коей удалено все «крамольное», в которой все переписано «как надо», полно фальсификации, построить ничего не получится — со временем она рухнет как дом на песке.