Заново дадим имена всем вещам — от одуванчика до Иосифа Сталина
Интервью с литературным критиком Валентином Курбатовым
Деревня, подтянутая в небеса, эмигранты из жизни, мертвое древо познания и мир, которому еще только предстоит открыть Пушкина. 29 сентября исполнилось 80 лет замечательному литературному критику Валентину Курбатову, автору книг о Михаиле Пришвине, Викторе Астафьеве, Валентине Распутине и многих других. В честь юбилея Иван Мартов встретился с Валентином Яковлевичем и поговорил с ним о духе земли, русской литературе и вечности.
— Что из прочитанного в детстве вам больше всего запало в душу?
— Не буду врать, ничего, чтобы прямо сейчас пересказать, не запало. Но в классе седьмом я кинулся читать в школьной библиотеке Алексея Максимовича Горького — самого главного тогда писателя, и оттого, естественно, и моего детства. Да и детства всех тогдашних мальчиков, наверное. Школа постаралась. Прочитал чуть ли не всё собрание сочинений. Конечно, больше всех пленила «Мальва» — свободная, яркая, ослепительная (подросток ведь — одно на уме — вот и засела в сознании). А там, конечно, Тургенев — «Первая любовь», «Ася», и неожиданно сильнее всех случайно подвернувшаяся под руку «Клара Милич (После смерти)». Теперь и перечитывать боюсь — так больно отозвалась она тогда сердцу. А спроси сейчас, про что эта «Клара», и не скажу. Помню только, как отшатнулся с сознанием, что случилось что-то мучительнее детского представления о любви. И сейчас пусть тайна так и останется, хотя так и хочется набраться отваги и вернуться — хватит ли силы устоять сейчас...
— Как тогдашняя жизнь рифмовалась с тем, что писал Горький? Разные времена уже были или похожие?
— Для детства нет никаких разных времен. Живешь себе и живешь. Горький был для меня нормальным и естественным. Не далеко еще мы тогда ушли от его миропредставления — «Челкаш», «Мать» «Песня о буревестнике» — смешно вспомнить: я поступал с этой «Песней» в 1957 году во ВГИК на актерский факультет. Время еще было патетическое. Сейчас (возраст учит) мы живем в другом идеологическом и культурном пространстве, исключающем духовное пространство Горького. А тогда еще ни телевидения, ни интернета. Была еще какая-то земная прививка, от которой мы сегодня брезгливо открещиваемся. Всяк нынче дворянин и «белогвардеец». Мне отчего-то больно и стыдно, что мы впервые, наверное, в мировой истории нашу родную историю норовим повернуть вспять: Ленинград опять Санкт-Петербург, хотя что в нем осталось от города святого Петра? Сталинград — Волгоград, а что делать со Сталинградской битвой? Красное знамя победы, пылавшее над Берлином, меняем на дореволюционный триколор, о котором поэт Георгий Адамович с изгнаннической печалью писал: «Над нами трехцветным позором / Полощется нищенский флаг». И, кажется, пока только и славы у этого триколора, что расстрел Белого Дома. Естественно, глядя на мир горьковскими глазами, подумаешь: сможет ли отечество отстоять себя под знаменем, которое кроме декоративной изысканности ничего под собой не имеет. Красное знамя было оплачено страданием, кровью родителей, поэтому с ним легко было выходить на сражение и побеждать.
В этом году я проводил 35-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии в Борках — деревне, где жил публицист, лауреат Ленинской премии Иван Афанасьевич Васильев, замечательный писатель, крестьянский сын, коммунист. Он переехал в деревню из города Великие Луки, приобрел там крошечный, брошенный всеми уголок земли, где построил сначала себе избу, потом тир, чтобы мальчишки умели стрелять врагу в глаз, затем Музей военной книги и Дом экологического просвещения, чтобы трактористы, задевшие плугом землю, понимали, что они ранили ее навсегда. Сейчас там, естественно, музей его имени.
В Борках Васильев придумал праздник фронтовой поэзии. Я помню, как приезжали на этот праздник его товарищи Федор Сухов, Михаил Дудин, Николай Старшинов, Юлия Друнина. Между Домом экологического просвещения и историческим музеем шла лестница, с которой, как со сцены, они читали для собравшихся со всей деревни и округи свои бессмертные военные стихи. Сейчас никого из них нет в живых. И в благодарность им четыре года назад я решил вывести на ту же лестницу «Бессмертный полк русской поэзии», куда позвал Сухова, Старшинова, Друнину уже портретами. В этом году мы уже читали стихотворения не бывавших у нас, но спасавших солдат и Родину своим словом Твардовского, Симонова, Кульчицкого. Стихи читали актеры, одетые в солдатскую форму времен Отечественной войны. И когда звучало, например, горчайшее «Я убит подо Ржевом», надо было видеть, как люди слушали. Целый день шел дождь — ни один человек не шелохнулся.
Эта попытка сохранения контекста не только русской поэзии, но и русской литературной традиции — сегодня самое дорогое, и по одним нашим деревенским праздникам видно, что самое необходимое душе. А мы упражняемся с поворотом истории, как недавно еще с поворотом рек. Поэтому так тяжело, странно, неуверенно и духовно-неопределенно живем. Идем не вперед, а назад: ретрознамя вернули, какие-то ретропонятия возвращаем, волости и земства. Гимн Советского Союза переписали и теперь слушаем ретрослухом и встаем без внутреннего полета.
— Когда вы завели речь о Доме экологического просвещения, я про Честнякова вспомнил, вы же интересовались его творчеством?
— Я был в доме-музее Ефима Васильевича в костромской деревне Шаблово, был в Кологриве с его замечательным собранием холстов Ефима Васильевича. Мы так еще и не оценили как следует такое огромное и важное явление как Честняков. Грузия гордится Нико Пиросмани, Франция — своим наивным Анри Руссо. Ефим Васильевич был выше и дальше, он не был просто наивным художником и не зря учился у Репина и у одного из величайших графиков Петербурга — Кардовского, не зря сиживал в умных Религиозно-философских обществах с Мережковским.
Он не бежал за Петербургом, а держал деревенское сознание в чистоте, как живое сокровище. Он чувствовал земную глубину деревенского человека и искал, как открыть эту глубину миру. В любом деревенском мальчике, девочке, старухе, которых он рисовал или писал, была видна вся полнота мира, красота и совершенство простого здорового земного духа. Его сказки и стихи рождены из этой стихии. В своей деревне они играют не в чужие страсти, а в свою же, только поднятую в небеса деревню. Деревенские шабловские дети, становясь «актерами», играли самих себя. Это особый способ существования, пока еще не имеющий аналогов в мире. Его Петербург, книги, умное чтение, были только дорогой к постижению тайны человеческого лица. Он делал фотографии местных мужиков, крестьян, женщин, детей. И ему казалось, что сейчас он покажет миру эти лица, и мир ахнет. У меня есть копии, сделанные с этих фотографий, на которые я смотрю с печалью, потому что теперь мы таких лиц не носим. Не носим в себе земной цельности, строившей те простые лица, которые специально не думали о тонкой сложности мира, потому что сами были этим миром.
Сегодня мы скорее играем в русское национальное сознание, декоративно строим его, но уже не являемся детьми земли и неба. Мы понимаем слово «почва» как литературное. И почва у нас пушкинская, достоевская, решетниковская, терпигоревская — литературная почва. И небо тоже слегка декоративное, православное «из приличия». Это Толстой не любил «православных из приличия» и искал в мужике того же, что искал и находил Честняков. Поэтому, оглядываясь сейчас на фигуру Ефима Васильевича, думаешь, какой бы был пример миру, если бы мы доглядели до конца то, что делал в малой деревне великий русский мыслитель и художник в лаптях. Мы бы проснулись другими.
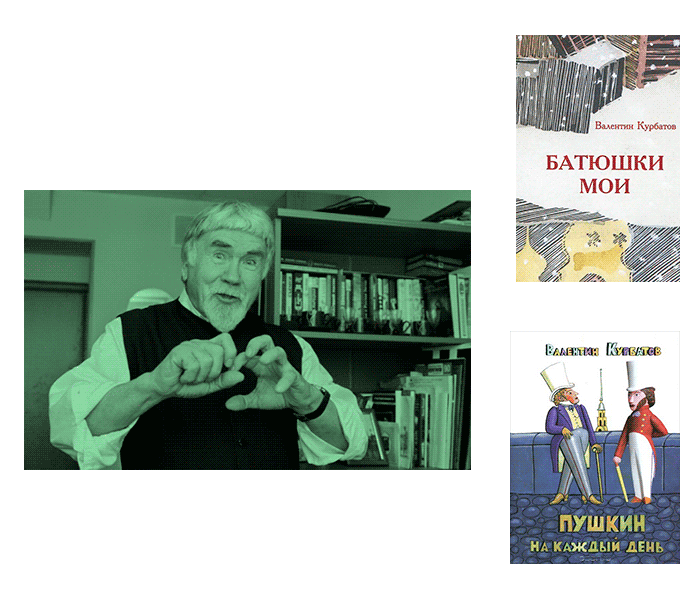 И от Александра Сергеевича Пушкина с его глубиной и ясностью мы в сущности отделались определением Аполлона Григорьева: «Пушкин — наше все». Меж тем как эта формула — только свидетельство замешательства. Великий критик и поэт перечитал Пушкина и в смятении не понял, как назвать это небо. Да ведь и правда, может, лучше-то и не надо, чем это смятенное «наше всё»! Если бы только однажды мировые культуры смогли перевести Пушкина так, как написано, — во всей его немыслимой непереводимой простоте. Сложность переводится легко. Легко перевести Пелевина, Быкова, Рубину и Проханова. Пушкина перевести нельзя. Переводят они летучие строки «Мороз и солнце...» — получается сводка о погоде. Но если однажды мир переведет его так, как должно, то Шекспир и Гете кинутся обнимать Пушкина, потому что они его малая часть, а он земля и основание, земля и небо. Все они обертоны его полноты, сердечной земной простоты. Перевести его нельзя, как нельзя перевести небо и землю: земля есть земля, небо есть небо. Поэтому миру еще предстоит открыть Пушкина. И как только он его откроет, то станет совершенно другим. Тогда мир впервые станет самим собой.
И от Александра Сергеевича Пушкина с его глубиной и ясностью мы в сущности отделались определением Аполлона Григорьева: «Пушкин — наше все». Меж тем как эта формула — только свидетельство замешательства. Великий критик и поэт перечитал Пушкина и в смятении не понял, как назвать это небо. Да ведь и правда, может, лучше-то и не надо, чем это смятенное «наше всё»! Если бы только однажды мировые культуры смогли перевести Пушкина так, как написано, — во всей его немыслимой непереводимой простоте. Сложность переводится легко. Легко перевести Пелевина, Быкова, Рубину и Проханова. Пушкина перевести нельзя. Переводят они летучие строки «Мороз и солнце...» — получается сводка о погоде. Но если однажды мир переведет его так, как должно, то Шекспир и Гете кинутся обнимать Пушкина, потому что они его малая часть, а он земля и основание, земля и небо. Все они обертоны его полноты, сердечной земной простоты. Перевести его нельзя, как нельзя перевести небо и землю: земля есть земля, небо есть небо. Поэтому миру еще предстоит открыть Пушкина. И как только он его откроет, то станет совершенно другим. Тогда мир впервые станет самим собой.
Рильке говорил, что все страны граничат друг с другом, и только одна Россия граничит с Богом. Он догадался об этом, приехав в Россию, смущенный тайной нашей страны. И я впервые вдруг начинаю понимать, что сейчас Россия стоит на своем самом высоком пороге. После всех испытаний, революций, коллективизаций, лагерей — стоит сейчас в этом открывшемся пространстве, в небывалой, непослушной свободе, с которой мы еще не выучились обращаться. Как зорко опасался Блок: «Пушкин, тайную свободу пели мы вослед тебе. Дай нам руку в непогоду, укрепи в немой борьбе». А явная, даром давшаяся свобода мгновенно развела нас в разные стороны — мы перестали быть народом и вскоре стали населением. Раньше за словом «народ» стояло что-то спокойно-твердое, чего и объяснять было не надо. Сегодня это слово нужно вычеркнуть как устаревшее. Потому что население осталось, а народ как целостность, как единство, исчез.
А из этой печали, сетования и вполне стариковского ворчания (мне восемьдесят лет) вдруг является совершенно неожиданный вывод. Сегодня, может быть, самое счастливое время для русского художника и русского человека. Износив все слова до пустоты и даже противоположности значений, мы имеем возможность вернуться в райский сад и назвать все окружающее нас заново. Впервые назвать мир с испугом и смятением и понять, как он богат, сложен и неисчерпаемо прекрасен. И если мы назовем правильно матушку-Россию, заново дадим имена всем вещам, от одуванчика до Иосифа Виссарионовича Сталина, то мы в самом деле откроем миру, что мы такое. А там и мир догадается. Просто нам, как часто случалось в истории, впервые выпало горькое счастье увидеть и осмыслить это.
— Давайте вернемся к тому, с чего начали. С какими книгами связано ваше личное становление?
— Связано всё с детством. В старое доброе время наши учителя оставляли нас после уроков и читали вслух. После долгого учебного дня, когда уже все опротивело, тебя еще и оставляют после уроков, но вдруг начинают читать повесть Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи». И ты уже не ропщешь, а только ждешь, чтобы это продлилось подольше. Мы ничего не обсуждали, не разговаривали о прочитанном, чтобы чтение не стало очередным обязательным уроком. Учительница просто читала. Читала про наших сверстников, которые жили иначе. Как нам с завистью казалось — более осмысленно. К сожалению, эта традиция ушла из школ. Жалко, потому что и «Васек Трубачев», и «Витя Малеев в школе и дома», и нынешние подростковые книги как раз ведь и рождены для публичного чтения, а не только для домашнего, потому что сразу хочется побежать и разделить счастье близости с книгой.
Но никуда не делись и книги, которые требуют уединения, даже как будто ревнивой утайки, словно написаны только для тебя, как в песне «Сормовская лирическая», где девушка читает всю ночь, пока ее возлюбленный мается и «до утренней смены, до первой сирены шуршат осторожно шаги под окном». Он мается, а ее от книжки не оторвешь, забыла, что «вчера говорила — навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок»... Горького, наверно, читала или Тургенева, ждала, что там будет отражена и ее любовь. Прямо будто социальный заказ требовалось выполнить литературе — ответить на требования девушки и написать наконец книгу про ее единственную любовь, чтобы каждый был потрясен этой ее любовью, как горьковской или тургеневской.
Есть замечательный питерский писатель Борис Николаевич Сергуненков, у которого была слава «нового Пришвина». Он написал много книг, сказок, а потом ушел в молчание — «дочитался до молчания». Однажды он сказал мне неожиданное: «Я впервые понял, что я — настоящий русский литератор, когда я замолчал, перестал писать». И я как впервые понял, что кто-то должен замолчать, чтобы истощенное слово наполнилось первоначальной глубиной. Это я и имею в виду, когда говорю, что русскому художнику как раз и выпало сегодня счастье сызнова назвать мир.
— Вам, кажется, совершенно чужды апокалиптические настроения. Вы не думаете, что история уже просто закончилась?
— Нет, наоборот — есть чувство радости, что нам предстоит вернуться к полноте пушкинского и толстовского бытия. Но вернуться с другой стороны, испытав все революционные, лагерные, капиталистические искушения. Мы давно изгнаны из человеческого бытия, мы эмигранты из жизни — мы из нее высланы и изгнаны. Но нам выпало счастье впервые вернуться домой из этой духовной эмиграции, в которой мы все оказались, и увидеть открытыми, потрясенными глазами мир и родное слово. До этого мы метались, разрушали отечество, губили под чужую опытную дудку Советский Союз. И вот сейчас останавливаешься, потрясенный, и впервые начинаешь осознавать, почему Пушкин не разгадан. Мы притворяемся, что разгадали Толстого, но тем не менее не отвечаем на самые главные вопросы, которые он поставил в последних главах «Войны и мира», где пишет том, почему война — бессмысленный способ человеческого существования. Война — это не способ разрешения человеческих конфликтов. Мы не дочитали его глав, поэтому случилась Первая мировая война, которой, по мнению Томаса Манна, не было бы, если бы Толстой на тот час еще был жив — стыдно было бы. А там, уж раз не додумали, случилась и Вторая мировая.
Астафьев пишет роман «Прокляты и убиты», за который его все солдаты отчитывают как мальчишку. Вопрошают, что он сделал с подвигом и зачем так безобразно написал войну, которая была их гордостью и славой. А Астафьев, на котором живого места не было от ран, писал этот роман с той же толстовской целью — вычеркнуть слово «война» из человеческого словаря как унижающее человеческий способ мысли, напомнить нам, что мы не для войны рождены небом и Богом и не должны отстаивать свои честолюбивые национальные, территориальные, рыночные притязания при помощи оружия.
 Виктор Астафьев и Валентин Курбатов. Конец 1970-х годов
Виктор Астафьев и Валентин Курбатов. Конец 1970-х годовНетерпеливо и жадно забывается сегодня советская литература, даже военная — Астафьев, Кондратьев, Носов, Константин Воробьев. 1 мая этого года Астафьеву бы исполнилось 95 лет. Юбилеи даны нам Господом, чтобы мы среди беготни вдруг очнулись, удивились бы чьему-либо столетию, двухсотлетию — и снова перечитали позабытые тексты. Без юбилеев мы бы так и бежали, не оглядываясь. И как бы хорошо если бы мы научились слышать каждое слово как новорожденное, удивляться ему, словно и у него юбилей, и мы видим его впервые. Надо каждый день радоваться потрясенным сердцем, что в России родился новый писатель, чтобы сказать тебе неслыханное еще слово, а завтра обрадоваться старому писателю, который промыл старое слово и поднял его к свету как неведомое.
— Меня удивляет ваш оптимистический взгляд на вещи. То есть вам нравится современная литература, вы ею по-прежнему интересуетесь?
— Я очень много читаю. Как члену жюри «Ясная Поляна» мне приходится читать только за одно лето книг сто двадцать — безумие, потому что всякое слово начинает размываться, а это отвратительно и невыносимо.
В этом году первоначально было представлено около ста тридцати книг на соискание одной только премии «Ясная Поляна» — это катастрофа. Не победа, а поражение. Сто тридцать гениев в России за год на одну только премию. Один из соискателей представляет сразу три свои книги, потому что они все, по его мнению, совершенны. Ведь это беда и обещание полной утраты слуха.
— Как вы думаете, почему в нашей культуре не чувствуется присутствия недавних классиков — вроде Фазиля Искандера, скажем?
— Сегодня нет времени — оно однодневно и перестает отвечать за длительность: «день простоять да ночь продержаться», как в гайдаровской сказке о «Мальчише». С другой стороны, есть наши внуки, которым мы должны передать что-то, есть наши деды, которые завещали нам что-то. Но не отвлеченные деды и внуки, а только я — та самая единица, определяющая полноту мира. А меня вдруг освобождают от ответственности за эту полноту. Это отсутствие времени и заставляет нас так жадно забывать, загораживаться от слишком требовательной памяти, и оттого и нет сегодня ни Астафьева, ни Фазиля Искандера, ни Федора Абрамова, ни Василя Быкова, ни Константина Воробьева — нет тех, кто еще недавно составлял небосвод русской литературы.
Сергей Владимирович Михалков, блистательный и не только детский поэт, разведен на насмешки из-за троекратного переписывания гимна. Но все гимны, написанные Сергеем Владимировичем, были предметом необычайного исследования: начиная со слов «Нас вырастил Сталин — на верность народу», а дальше Сталина уже нет, появляется в тексте «партия», и затем, наконец, народ, который славен, един и бессмертен.
Сергей Владимирович ни в одном слове не соврал, он был искренним ребенком своего времени. Сегодня мы умнее самих себя и ругаем все, что связано со Сталиным. Но Михалков жил там и тогда и написал истинный, органичный текст гимна, который народ жадно пел, шел с ним на войну, стоял насмерть и побеждал.
 Валентин Курбатов и Валентин Распутин
Валентин Курбатов и Валентин РаспутинСегодня нет ни Сталина, ни той партии, осталось только одно народное сердце. Сергей Владимирович Михалков вернулся из своего исторического плутания и написал все-таки тот гимн, который должен был написать в самом начале; он вернулся, пройдя со страной и временем тысячу исторических заблуждений, но написал тот последний гимн, который сегодня звучит, тот самый гимн России, который должен был быть написан первым. А только время не обгонишь. Дал бы Бог не отстать — не от суетной реальности, а от вечности, которая заложена в основание каждого дня.
Художник в России сегодня должен спасти себя, назвать себя сам, назвать свое собственное существование спокойно, уверенно и ясно, чтобы понять вдруг, для чего Господь его столько времени таскал сквозь все исторические передряги, через тиранов, деспотов, президентов — неизвестно, кто из них фальшивее и злее. Недавно я шел по Никольской улице и увидел, как идут тираны: Сталиных человек пять, Лениных человека четыре, какие-то Борисы Годуновы прошли. Потом они сошлись, закурили и начали что-то обсуждать. А я подошел к ним и говорю: «Тираны мира, трепещите!» А они не затрепетали, но улыбнулись. Возможно, хорошо, что ряженые тираны ходят по миру — это напоминание, что в истории есть действительно глубинные смыслы. Необходимо увидеть, во что и зачем они рядятся. А по Красной площади ходят императрицы в кринолинах и кедах — зачем же так позорить наших матушек императрицу Елизавету и Екатерину и всех остальных? У нас вся империя сегодня в кедах — мы никак себя не найдем и не определим.
— Если говорить про сегодняшний день, какие живые силы вы видите в литературе?
— Они по-прежнему есть, они никуда не деваются. Есть Захар Прилепин, получивший премию «Ясная Поляна» за роман «Санькя». Роман о мальчике, который все пинает, переворачивает урны, злой, во времени себя найти не может, мечется между Крымом, Донбассом. Потом приезжает к бабке в деревню и что-то там вдруг начинает понимать. Он коснулся корня, все в нем встрепенулось, и он вдруг вернулся к чему-то, чего еще и понять не может, но уже знает, за что держаться.
Есть Роман Сенчин — очень современный писатель, который почти с вызовом, нарочито продолжает распутинскую повесть «Прощание с Матерой», как бы заканчивает ее сюжет. Принимает эстафету, чтобы «те», новые хозяева мира не мнили, что за ними нет догляда. Есть в Сибири Михаил Тарковский. Они внешне договаривают старое, но на самом деле просто меряют старое платье — выросли ли? Или еще можно поносить?
А модернисты и постмодернисты — это уже просто налог, неизбежная молодость. Народ городской, у него слово прививается к слову же, не к земле. Книга пишется из книги, рождается из библиотеки. Высокоуважаемый мной Иосиф Бродский получает Нобелевскую премию, потому что мир видит, что в одном месте он Ариосто процитировал, в другом — Платона, в третьем — Данте. Умный читатель это узнаёт и ахает: «Я догадался, значит, поэт тоже не дурак. Он так тонко мне намекнул». Это и есть книга, рождающаяся от книги. Георгий Васильевич Свиридов как-то выразился о такой поэзии «Жевано как-то», а я осмелился процитировать его и был тут же чуть не застрелен Владимиром Рецептером. Сегодня таких «библиотечных» все больше. И они естественны, потому что библиотека все увереннее становится «землей».
— У вас очень специфический взгляд на вещи. Это с возрастом приходит?
— Нет, наверное, не с возрастом. Может, это связано с моим детством, с деревней, с землянкой, в которой я жил до семи лет.
Я постоянно хожу в церковь, потому что там дается высочайший камертон. В довольно узкое пространство церковного литургического стояния можно поместить вечность. И когда выходишь потом в мир, то оцениваешь его уже иначе — через очки этой вечности, которые дает тебе церковное пространство. На происходящее вокруг ты смотришь, как взрослый смотрит на детей, и думаешь: как же они не догадываются, что надо называть мир.
 Валентин Курбатов
Валентин КурбатовЯ все время твержу, что новым адамам пора быть первым Адамом. Мы сорвали яблоко с древа познания вместо древа жизни и платим за это. У Гете были замечательные слова: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». Древо познания вечно мертво.
Я служил четыре с половиной года на Северном флоте. После возвращения пришел на Пасху в Пскове в Троицкий сибор, где служил владыка Иоанн, бывший келейник Сергия Страгородского. Владыка всем дал крест, как положено по окончанию службы, но демонстративно и подчеркнуто обнес меня, пронес крест к следующей бабушке. Я побледнел: креста лишился. На следующую Пасху, проведя год в храмовом порядке служб, уже на ватных ногах снова пошел к кресту. Владыка спросил мое имя, задрал свой «подол», достал служебную просфору и говорит: «На! И смотри у меня!» Что же я такое нажил за четыре с половиной года, чтобы обнести меня крестом и сказать через год «смотри у меня»? Это было то самое церковное понимание человеческого лица. Но сегодня никто уже крестом не обнесет. Тогда еще была церковь, которая чувствовала полноту ответственности, полноту человеческого лица.
Сейчас я приглядываюсь к лицам и почти не вижу в них уверенного покоя, когда человека не повалишь, потому что он — дома. Но желание этого дома остается всегда, тем более в России. Слава Богу, снова на России лежит ответственность назвать мир. Снова нас, дураков, Господь уполномочил назвать мир, освободить от первородного греха Адама и Евы. Отойти от бесплодного Древа Познания к вечно зеленому Древу Жизни, обняться перед лицом Божьим и войти в первозданную чистоту.