«Занимаясь критикой, я понял, что ненавижу литературу и писателей»
Интервью с Александром Архангельским
«У Гайдара, например, тоже есть подлые сюжеты»
Я научился читать года в четыре. Библиотека у нас была не самая большая, поэтому глотал все подряд. Этого принципа я придерживаюсь до сих пор. Первую книгу я помню очень хорошо — это были сказки Пушкина в темно-синей обложке. А вторая — его же стихи с комментариями Сергея Михайловича Бонди. Комментарий сопутствовал каждому стихотворению. Мне кажется, что это идеальный способ подачи поэтических текстов.
Были книги, которые я потом никогда не перечитывал сам и никому бы не советовал. Например, роман Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» или «Бронзовая птица» Рыбакова, потому что там просоветский сюжет, но это еще полбеды. У Гайдара, например, тоже есть подлые сюжеты, но это не отменяет того, что он был большим художником, писал хорошие произведения, — у него есть слова, которые сильнее сюжета. А у Осеевой, и даже у Рыбакова, этого нет.
Для всего нашего поколения, как я убежден, сыграли огромную роль трилогия о Незнайке Носова, а также его рассказы, и Драгунский. Как заметил Леонид Клейн, у Носова изображается русская семья, а у Драгунского — еврейская. Потому что у Носова любой рассказ начинается со слов «когда мы с Мишкой остались одни», а у Драгунского — «когда мы с папой пошли вместе». Чтение трилогии про Незнайку в будущем избавило меня от ошибок рыночной эпохи, потому что там описана пирамида в обществе гигантских растений, и как-то сразу понятно, что ее надо избегать. Я, в отличие от моих сверстников, деньги в МММ не вкладывал впоследствии.
Кроме шуток, это очень важные книги. Была великая классика, была советская художественная литература и была средняя, связывающая их, советская. Сегодня родители в зубах несут своим детям Маршака, не понимая, что он уже сам нуждается в комментариях: кто сейчас сдает багаж в поездах, что такое картонка? Тогда это не было чем-то непонятным. У Чуковского слышалось что-то такое, что не вписывалось ни в какие слова. Это потом стали понимать, что там живая жизнь, НЭП в «Мухе Цокотухе» угадывался, но тогда мы этого не понимали.
Школа была адом, Дворец пионеров — раем. С одноклассниками мне было неинтересно, а им со мной — непонятно. Во Дворец пионеров я пришел записываться в кружок рисования, а по пути — еще и в кружок литературного творчества. Рисование через месяц я бросил, а на литературном творчестве остался, потом его же сам и вел. Ко мне ходили Леня Клейн, Майя Кучерская, так что я был неплохим кружководом. В школе у меня была хорошая учительница по литературе, которая не вмешивалась в то, что в программу не вписывается. По поводу советских учебников, которые были «свежи и интересны», — вы просто перечитайте их сейчас. Этим учебником можно убить и душу, и тело.
Из школьной программы очень хорошо шел Достоевский, «Преступление и наказание». Как сейчас помню: прогуливал уроки, брал эту книжку с собой в автобус № 77, который ехал из Матвеевки до Кольца, потом пересаживался на Кольцо и просто катался по кругу, читая Достоевского. При этом я был советским ребенком, я даже победил в конкурсе сочинений на тему «Берем с коммунистов пример». Моя семья не была антисоветской или интеллигентской, но что-то все время такое пробивалось. Дворец пионеров давал то, чего мне не хватало: там я читал Пастернака, ксерокопию «Доктора Живаго» мне подарили классе в десятом. Так получилось, что я общался с замечательным чтецом Дмитрием Николаевичем Журавлевым, который дружил с Пастернаком. У него были все стихи из «Доктора Живаго», переписанные рукой Пастернака с экономно подклеенными правками — Пастернак не вычеркивал, а приклеивал правки.
Это был 10-й класс. Какая тут школьная программа? Это потом я уже дочитывал того же Пушкина.
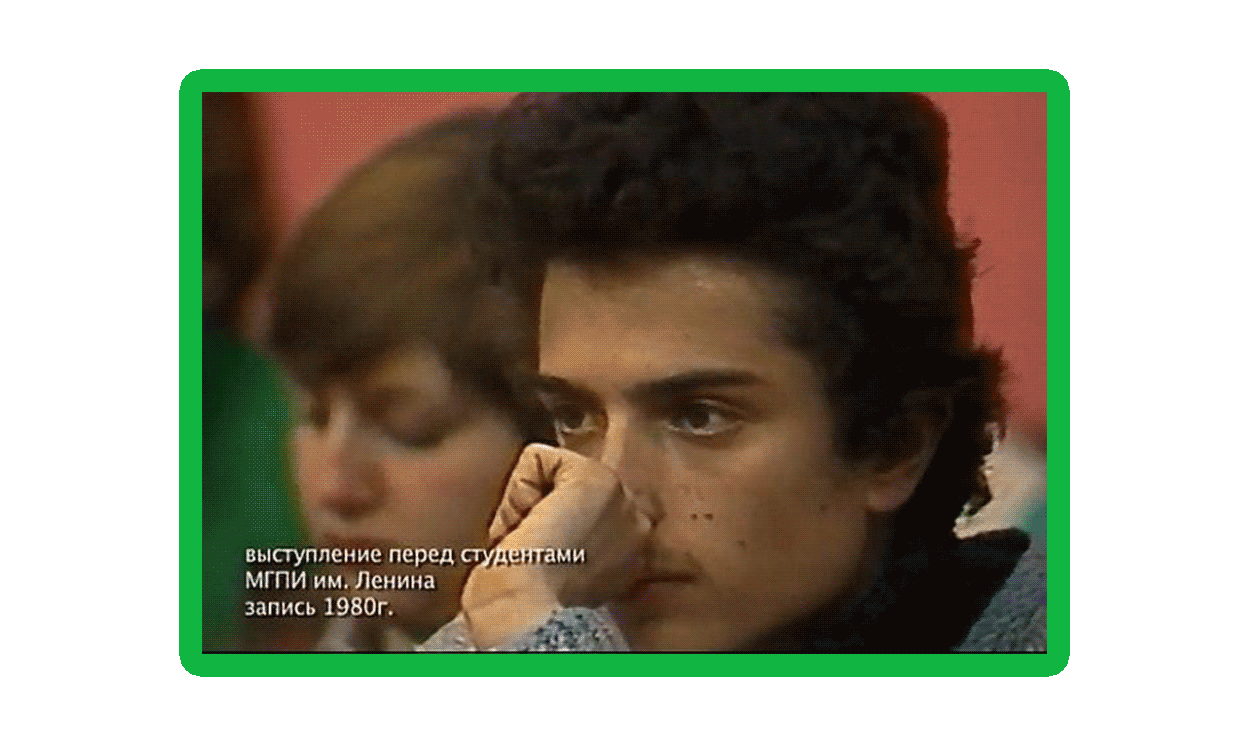 Подросток живет по схеме «пишу, но не читаю». В кружке я начал читать стихи больше, чем прозу, потом все поменялось. Читал я Давида Самойлова, Мартынова, но не полюбил, читал Александра Межирова, Ахмадулину, Вознесенского, в меньшей степени Евтушенко, а Рождественского мы совсем презирали. Он нам казался смешным: «Горбуша в сентябре идет метать икру, трепещут плавники, как флаги на ветру». И весь джентльменский набор начала ХХ века. Бродский был позже, потому что с детства на полке не лежал.
Подросток живет по схеме «пишу, но не читаю». В кружке я начал читать стихи больше, чем прозу, потом все поменялось. Читал я Давида Самойлова, Мартынова, но не полюбил, читал Александра Межирова, Ахмадулину, Вознесенского, в меньшей степени Евтушенко, а Рождественского мы совсем презирали. Он нам казался смешным: «Горбуша в сентябре идет метать икру, трепещут плавники, как флаги на ветру». И весь джентльменский набор начала ХХ века. Бродский был позже, потому что с детства на полке не лежал.
Мама очень боялась за меня, она была запуганным советским человеком: когда она видела самиздатовские ксероксы, то всегда дрожала. Но она ничего не запрещала, наоборот, она заставляла вести дневник читателя и писать в него рецензии. Это было ошибкой, которая на какое-то время отпугнула меня от чтения, и я стал заниматься математикой.
«Школьное и просветительское литературоведение — не то место, где реализуешь себя без страха и упрека»
Дворец пионеров подтолкнул меня в сторону занятий филологией. Я очень хорошо понимал, что не поступлю на филфак МГУ, потому что в доме нет денег на хороших репетиторов, а школа базы не дала, у меня нет способности к языкам, и в армию мне идти не хотелось. Поэтому я решил поступать на филфак Ленинского педагогического института. Весь свой потенциал я там реализовал и вовремя оттуда ушел. МГПИ не был блестящим учебным заведением, несмотря на то, что там было много выдающихся преподавателей, даже А. Ф. Лосев. Как-то я его, почти слепого, провожал под ручку через пустое пространство — здание бывших женских курсов со стеклянным потолком.
Ходить на занятия я перестал довольно рано. У нас прямо в здании была замечательная библиотека — именно потому, что это было здание женских курсов, а места для книжного хранилища не было, выдавали все подряд. И вместо того, чтобы ходить на лекции, я читал книги. Там были журналы 1920–1930-х годов, и даже прижизненный XIX век. Я тогда увлекся пушкинской эпохой, попал в хорошие руки — к Валентину Ивановичу Коровину. Это было важнее лекций, но были и прекрасные лекторы. По истории был знаменитый доцент Кобрин. Он дал мне формулу, которая потом пригодилась в размышлениях над мировой историей: есть один критерий оценки деятельности политика — можно ли было достичь того же самого менее жестокими средствами? Это очень хороший критерий, потому что иногда история жестока и хирургия нужна, но если мы можем доказать, что хирургия могла быть с обезболиванием, или даже можно было вообще обойтись терапией, то мы, как историки, можем осуждать этого политического деятеля. Условный Петр, который в процентном отношении уничтожил, наверное, больше людей, чем Сталин, не может быть до конца описан как отрицательный персонаж, потому что он не сломал хребет самовоспроизводящейся русской цивилизации. Сталин уничтожил крестьянство не как класс, а как культурную основу традиции — после него пошла новая эпоха.
Были очень неплохие лекции по современному русскому языку, но я не очень понимаю, зачем нужна лингвистика в том виде, в каком она была в МГПИ. Что мне дает классификация предложений? Что мне дает классификация не смыслов и средств реализации смыслов, а классификация как шкала? Были молодые преподаватели филфака МГУ — Алексей Шмелев, которого называли «сын учебника» из-за того, что его отец написал учебник. Шмелев тогда был молодым преподавателем, при этом преподавать не умел — он разговаривал на птичьем языке, мастерство к нему пришло позже. Олег Проскурин у меня не преподавал, тогда он только-только пришел после филфака, но его присутствие уже было очень важным. Больше я никого не припомню.
Я еще бегал в университет на открытые лекции Михаила Викторовича Панова. В Ленинском педе было принято о нем говорить через губу, а диглоссию Успенского осуждать как лженаучную теорию — тем интереснее было ходить и слушать.
 На первом курсе я занялся Пушкиным. Хорошо, что я не понимал тогда ничего про пушкинистику, иначе у меня бы просто смелости не хватило. Кроме того, у меня не было амбиций текстолога — я плохо читаю рукописи, этого дара у меня нет. Но у меня был теоретический ясный ум. На диссертацию и первую книжку про «Медного всадника» этого вполне хватило. Дальше я понял, что надо либо изобретать новый метод, либо из методолога превращаться в методиста. Школьное и просветительское литературоведение — не то место, где реализуешь себя без страха и упрека. Главное вовремя соотнести свои амбиции со своими возможностями. Установка, которую мне дали, была правильной: ты должен знать не только Пушкина, но и эпоху, а эпоха — это не только литература. Надо знать и хлебные рынки, и цену серебряных денег, философскую и религиозную жизнь — этим я занялся, и это был правильный выбор.
На первом курсе я занялся Пушкиным. Хорошо, что я не понимал тогда ничего про пушкинистику, иначе у меня бы просто смелости не хватило. Кроме того, у меня не было амбиций текстолога — я плохо читаю рукописи, этого дара у меня нет. Но у меня был теоретический ясный ум. На диссертацию и первую книжку про «Медного всадника» этого вполне хватило. Дальше я понял, что надо либо изобретать новый метод, либо из методолога превращаться в методиста. Школьное и просветительское литературоведение — не то место, где реализуешь себя без страха и упрека. Главное вовремя соотнести свои амбиции со своими возможностями. Установка, которую мне дали, была правильной: ты должен знать не только Пушкина, но и эпоху, а эпоха — это не только литература. Надо знать и хлебные рынки, и цену серебряных денег, философскую и религиозную жизнь — этим я занялся, и это был правильный выбор.
В истории любой культуры бывают редкие моменты, когда уже все можно, но еще ничего не сделано. В немецкой литературе это время Гете. Ни до, ни после подобный прорыв не был бы возможен. (Томас Манн — исключение из правил.) То есть инструментарий уже есть, но еще почти ничего не сделано, и надо просто брать и создавать, как бог людей из глины. С другой стороны, это драма, потому что Пушкин, входя в литературу, подавил множество великих зародышей и вполне созревших злаков. Державин мог бы составить славу целой национальной традиции, а Пушкин его задвинул в глухую историко-литературную нишу.
Но это вопрос, как работать с ним в школе, какие ходы искать. «Бедную Лизу» в школе читать тоже тяжело, но надо, просто Карамзина в школе стоит представлять не как Василия Белова, а как Владимира Сорокина.
Я думаю, что недостаток мой и моего круга — в проблеме с языками. Если бы язык мне давали с детства, возможно, мне бы удалось достичь того уровня, чтобы читать свободно зарубежную литературу. Я читал советские переводы, которые были замечательными, но очень жестко фильтрованными. И с большим отставанием во времени. «Вся королевская рать» была переведена почти вовремя — то есть с разрывом в десять лет; Бёлль был переведен из-за своей прогрессивности, но потом шлагбаум все равно опустили из-за дружбы с Солженицыным; «Жестяной барабан» вышел с опозданием. Зазоры и отставание дикое.
«Для Хабермаса психологической проблемой был Гитлерюгенд, а для Мамардашвили — его советско-грузинское просталинское детство»
Советские философы, к которым я отношусь с нежностью, отличались абсолютным непрофессионализмом с точки зрения «книжного производства». Филологов дрессировали так, что они могли выпускать классику, комментировать, писать предисловия, то есть любой дееспособный филолог проходил своеобразное литературоведческое ПТУ. Философы ничего не умели. Я хорошо помню, как одна выдающаяся женщина-философ спрашивала: должна ли она каждый раз проговаривать в комментариях свое несогласие с В. С. Соловьевым? То есть они не понимали, что такое комментарий. Кого было брать, когда поздний Советский Союз решил наконец приоткрыть шторки и выпустить не вполне советских философов? Филологов. Так я оказался в «Вопросах философии». Чисто технически это было некому делать, поэтому брали филологов. Поскольку я уже к тому времени довольно долго работал в советском толстом литературном журнале, я с удовольствием пошел.
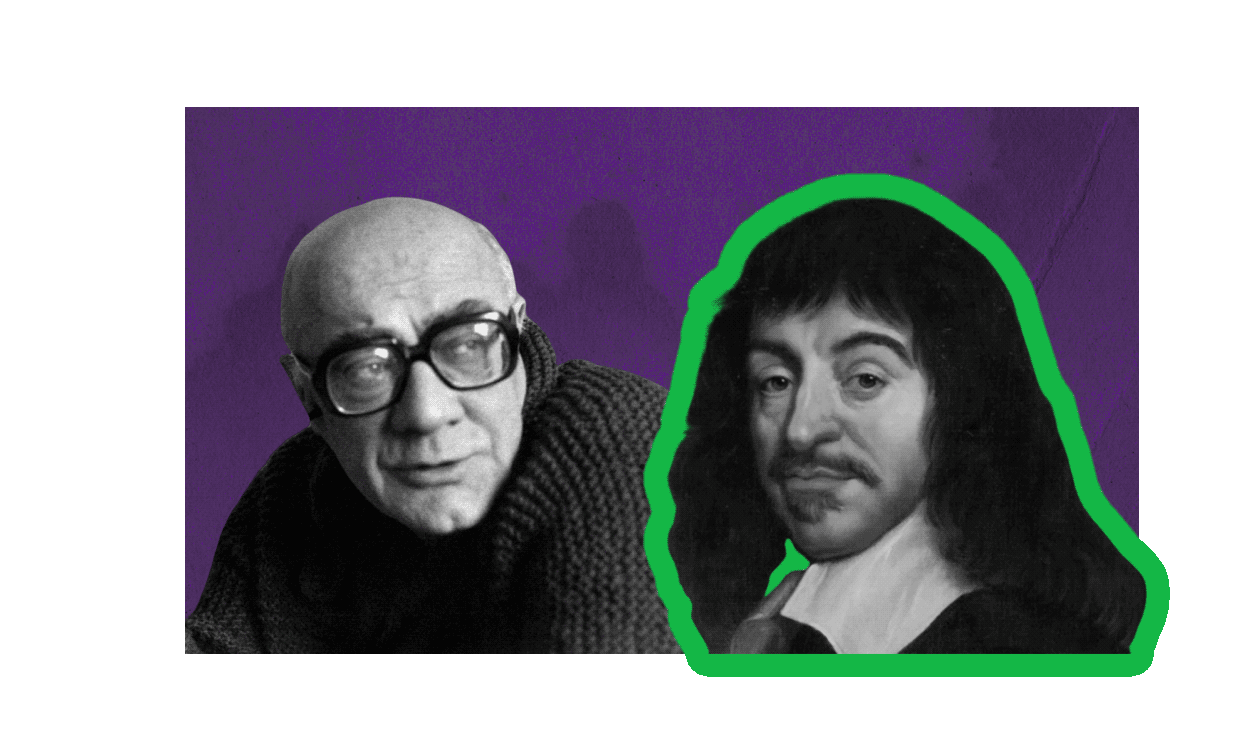 В юности я ходил на лекции Мамардашвили, он мне кажется самым симпатичным. Это был цикл о Декарте. Мамардашвили не умел писать, поэтому читать его довольно бесполезно, но он умел говорить так, что если ты не понимал смысла каждой конкретной фразы, то все равно была понятна мысль. Он читал лекции не как историк философии, а как философ, то есть критикуя текст, — это критика текста и критика собственной мысли по поводу текста. Поэтому взаимоотношения с Декартом — это были отношения равного с равным. Важно, что он выводил из Декарта живую сиюминутную неосовремененную мысль, философский контекст, культуру. Он втягивал в свои рассуждения современную мировую философию, которую хорошо знал: он читал в юности все это, и был знаком с Хабермасом. Для Хабермаса психологической проблемой был Гитлерюгенд, а для Мамардашвили — его советско-грузинское просталинское детство. Личность Мамардашвили проступала в нем очень явственно.
В юности я ходил на лекции Мамардашвили, он мне кажется самым симпатичным. Это был цикл о Декарте. Мамардашвили не умел писать, поэтому читать его довольно бесполезно, но он умел говорить так, что если ты не понимал смысла каждой конкретной фразы, то все равно была понятна мысль. Он читал лекции не как историк философии, а как философ, то есть критикуя текст, — это критика текста и критика собственной мысли по поводу текста. Поэтому взаимоотношения с Декартом — это были отношения равного с равным. Важно, что он выводил из Декарта живую сиюминутную неосовремененную мысль, философский контекст, культуру. Он втягивал в свои рассуждения современную мировую философию, которую хорошо знал: он читал в юности все это, и был знаком с Хабермасом. Для Хабермаса психологической проблемой был Гитлерюгенд, а для Мамардашвили — его советско-грузинское просталинское детство. Личность Мамардашвили проступала в нем очень явственно.
Мы очень уважали людей, которые занимались историей философии — например, Гайденко. Как-то я общался с Юрием Николаевичем Давыдовым, который для меня является не только автором поздних почвеннических публицистических работ, но и автором работ о философии труда и капитала. Он такой творческий марксист, ставший почвенником. Я взял как-то для «Комсомольской правды» интервью у Давыдова о философии, которое назвал «О нравственной философии»; при печати название, не поставив меня в известность, поправили — «О нравственной марксистско-ленинской философии». Позор... Еще я немного общался с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, который непонятно по какому ведомству проходит.
«Есть поклонники коктейлей, а есть любители чистых напитков, к которым отношусь и я»
С тех пор, как я развязался с литературной критикой, лет 15–17 назад, у меня улучшились отношения с литературой. Я могу не дочитывать, могу бросить в середине и начать читать с конца. Занимаясь критикой, я понял, что ненавижу литературу и писателей, но все это, слава богу, давно ушло. Я прочитал только что список премии «НОС». Не могу сказать, что мне там все близко, но несколько книжек мне понравились. «Опосредованно» Сальникова, которая хороша, хотя и понравилась мне меньше, чем «Петровы в гриппе», потому что Сальников занимается словесным разбоем, и иногда возникает ощущение, что он дурит читателя, — то ли гениальность, то ли графомания. В этом романе меня восхитило то, как называются главы: они выстраиваются в стихотворение, с которого начинается мучительный сюжет, топчущийся на месте. Еще отмечу книгу Линор Горалик «Все способные дышать дыхание»; это книга про современность, про социальную отзывчивость, про ритм центра мира. И Стесина. И Кононова. И Синицкой... И мне жаль, что жюри не обратило внимание на роман Алексея Поляринова.
Еще я был за включение в короткий список Долинина, хотя бы потому что роман «Дар» сам по себе является комментарием модерна по отношению к классической эпохе, а научная книга Долинина — комментарий эпохи постмодерна — к комментарию модерна — к классическому нарративу. В общем, «Дом, который построил Джек». В книге нет художественных образов, но есть литературный прием. Родоначальником жанра комментария, который одновременно является романом, стал сам Набоков: его комментарий к «Евгению Онегину» в той же мере научное наблюдение, в какой субъективный, почти ревнивый диалог с автором, — почему он, а не я написал это? Конечно, Долинин этого не делает, но сама фигура Набокова провоцирует нас на такого рода размышления. Книга Долинина, будучи чисто научным сочинением, дает еще и то, что не дает словесность, — тот воздух и простор, который я не нашел в филологической прозе, в изобилии представленной в длинном списке премии. Это хорошая проза, но зачем я буду читать это? Есть поклонники коктейлей, а есть любители чистых напитков, к которым отношусь и я.
Вполне достойна книга Даниила Туровского; со всеми претензиями к ее стилю — это документальная проза, а не псевдорасследование. Я в этом списке в этом году вижу победу чистого жанра над «филологическим коктейлем».
Еще я прочел весь список «Большой книги», там тоже много симпатичного есть. Книга Олега Лекманова и коллег про Ерофеева просто блестящая, мы ее сначала включили в длинный список премии «Просветитель», хотя биографии не берем, но это и не биография, а рассказ о советском типаже. Книга Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» — это проза в духе Коваля, но вполне «для взрослых».