«Заговор — это один из инструментов критики»: интервью с Люком Болтански
Беседа с автором книги о связи детективной литературы и конспирологии
Не так давно мы
— Сначала вопрос о книге «Тайны и заговоры»... Как заговор связан с современной политикой и почему сейчас модно повсюду выискивать заговоры?
— Это очень сложный вопрос, который сейчас серьезно занимает Францию — намного серьезнее, чем тогда, когда я писал эту книгу. Но в Соединенных Штатах изучение conspiracy theories было чуть ли не новым направлением в гуманитарных науках. В книге «Тайны и заговоры» есть глава, посвященная анализу этой проблемы. А проблема и впрямь очень сложная, поскольку мы не знаем, что именно происходит: сегодня вера в существование заговоров более распространена или она проявляется более открыто? Другая не менее важная проблема: следует ли формулировать этот вопрос в терминах веры? Возьмем пример, который не имеет прямого отношения к теории заговоров. Есть целое движение, сторонники которого утверждают, что Земля плоская, а элиты лгут, уверяя, что Земля круглая. Имеет ли вообще смысл задумываться, действительно ли в это верят люди, делающие подобные заявления? Формулируя иначе: хотят ли эти люди действительно сказать, что Земля воистину плоская, а значит, те, кто уверяют нас в том, что она круглая, лжецы? Или же эти люди хотят показать, что не дадут себя провести и прекрасно знают, что им во всем всегда лгут?
Есть две другие вероятности. Первая — рассматривать подобное заявление в рамках логики, которая является скорее логикой изучения нарратива, рассказа. В этой связи следует делать очень важное, на мой взгляд, различие между тем, что мы знаем по своему опыту, и тем, что мы знаем понаслышке, прислушиваясь к тому, что говорят. Я полагаю, заблуждение социологии вообще, а социологии феноменологической или прагматической в частности, заключается в нашей чрезмерной вере в знания, основанные на личном опыте. Думаю, по своему опыту мы вообще мало что знаем. Это видно у маленьких детей, когда они начинают придумывать теории мироздания... Мой сын, когда был маленьким, однажды очень серьезно разъяснил мне одну из своих первых научных теорий, а именно то, что сначала человек существует ребенком, затем становится мужчиной, а в конце женщиной. В этой теории не было ничего абсурдного (кажется, подобные метаморфозы отмечаются у некоторых насекомых), но в случае с человеческими существами она была ошибочной.
 То, что мы знаем по своему опыту, крайне ограничено. А то, что знаем понаслышке, прислушиваясь к тому, что говорят, мы подхватываем, прежде всего, дабы пересказать другим. Это и становится рассказом. Можно вообразить — так поясняет логика изучения повествования, — что есть рассказы, пригодные для рассказывания, и рассказы не очень интересные для рассказывания, поскольку они не привносят ничего удивительного. Если вы встретите человека, на которого хотите произвести впечатление, и скажете ему: «Я знаю, что Земля круглая», это его мало затронет. Но если вы скажете ему: «Я знаю, что Земля плоская», это вызовет взаимодействие: «Как же так, меня всегда учили, что земля круглая. С чего вы взяли? Докажите, что Земля плоская...». И это позволит установить связь с собеседником. Если он ответит, что ты с ума сошел, и уйдет, то ничего не получится. Но если удастся задержать его внимание, зацепить его, то установится связь. Мы куда больше предрасположены к рассказу, в котором Земля — плоская.
То, что мы знаем по своему опыту, крайне ограничено. А то, что знаем понаслышке, прислушиваясь к тому, что говорят, мы подхватываем, прежде всего, дабы пересказать другим. Это и становится рассказом. Можно вообразить — так поясняет логика изучения повествования, — что есть рассказы, пригодные для рассказывания, и рассказы не очень интересные для рассказывания, поскольку они не привносят ничего удивительного. Если вы встретите человека, на которого хотите произвести впечатление, и скажете ему: «Я знаю, что Земля круглая», это его мало затронет. Но если вы скажете ему: «Я знаю, что Земля плоская», это вызовет взаимодействие: «Как же так, меня всегда учили, что земля круглая. С чего вы взяли? Докажите, что Земля плоская...». И это позволит установить связь с собеседником. Если он ответит, что ты с ума сошел, и уйдет, то ничего не получится. Но если удастся задержать его внимание, зацепить его, то установится связь. Мы куда больше предрасположены к рассказу, в котором Земля — плоская.
Это подводит нас ко второй вероятности. Распространение конспирологических теорий допустимо рассматривать как попытку установить различие или подчеркнуть различие между «ими» и «нами». Между элитами — профессорами, политиками, теми, кто выступает в средствах массовой информации, теми, кто знает, — и «нами» — теми, кто не знает, а точнее, не может ничего знать, хотя и обладает какими-то иными познаниями. Подобное представление очень распространено, например, в связи с «теориями популизма» (я ставлю термин в кавычки). Если это верно (и возможно далеко не так ново, как часто заявляют), то этому находится немало объяснений. Причиной может быть то, что люди, выражающие свое мнение в средствах массовой информации или в политике, как будто получают некое преимущество, своеобразную гарантию, предоставляемую институциями, в частности, на основании своих дипломов, они имеют гарантию, которой не имеют все остальные. Гарантию, которой все остальные лишены.
Иначе говоря, здесь можно предположить связь со старой теорией, о которой я упоминаю в книге: увеличение количества людей, которые получают образование, овладевают знаниями и умениями, но не извлекают никакой пользы или очень мало пользы из своих знаний и умений. Разумеется, можно искать сведения, позволяющие сказать нечто, отличающееся от официальной информации, в интернете — относительно информации он играет роль некоего «плана имманентности», по выражению Делеза; такой поиск — это средство борьбы против авторитетных требований тех, кто получил гарантию от институций. И действительно, согласно такой интерпретации, явление оказывается связанным с кризисом авторитета, власти, то есть институционной гарантии. Если провести аналогию с проблематикой произведений искусства, чья ценность (а также стоимость) гарантированы такими институциями, как университеты или крупные музеи, то сомнение в «подлинности» вызовет не только обвал цен на эти произведения, но и крах гарантирующих авторитетов.
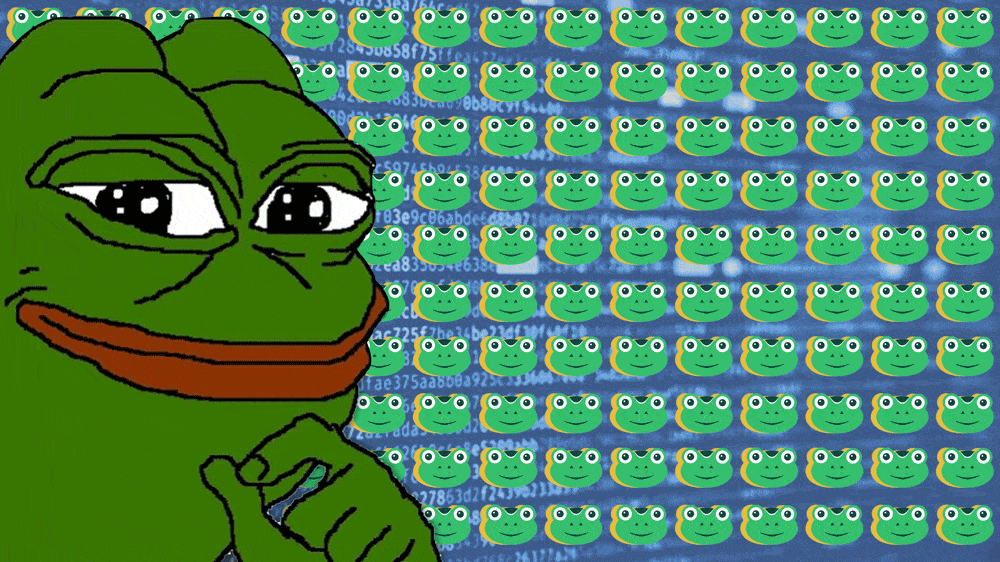 Я думаю, вопрос остается открытым, поскольку тот, кто отстаивает идею плоской Земли, вынужден перемещаться в пространстве, а значит, продолжать летать на самолетах и фактически принимать реальность, в которой Земля все же круглая. То, что неправильно называют его «верой», оказывается делом обстоятельств. Но таким образом он показывает, что утратил доверие к авторитетам. Эта всеобщая утрата доверия к авторитетам проявляется особенно тогда, когда мир распадается. В такие моменты следует искать другие точки опоры или становиться революционером и пытаться создавать иные реальности.
Я думаю, вопрос остается открытым, поскольку тот, кто отстаивает идею плоской Земли, вынужден перемещаться в пространстве, а значит, продолжать летать на самолетах и фактически принимать реальность, в которой Земля все же круглая. То, что неправильно называют его «верой», оказывается делом обстоятельств. Но таким образом он показывает, что утратил доверие к авторитетам. Эта всеобщая утрата доверия к авторитетам проявляется особенно тогда, когда мир распадается. В такие моменты следует искать другие точки опоры или становиться революционером и пытаться создавать иные реальности.
Можно еще предположить, что развитие конспирологических теорий связано с другими процессами, причастными к культуре элит благодаря журналистским расследованиям, шпионским романам, обвинениям, которыми обмениваются политики, а также в тех случаях, когда важных политических или университетских деятелей действительно ловят на лжи. Эта диверсификация информации хороша еще и потому, что она некоторым образом связана с демократией и свидетельствует о существовании публичного пространства, в трактовке Хабермаса, где сталкиваются различные точки зрения. В определенных случаях это диверсифицированное публичное пространство может стать пространством игры, которое в действительности вовсе не дестабилизирует действительность. Вполне допустимо предположить, что в большинстве случаев сосуществуют моменты, когда люди отстаивают свои конспирологические идеи, и моменты, когда люди действуют, словно таких идей у них в действительности нет. Но если подобные конспирологические теории используют в своих целях политические предприниматели, то это может оказывать куда более мощное и разрушительное воздействие на действительность. А иногда и воздействие преступное.
— Второй вопрос по поводу книги. Почему ты выбрал для исследования детектив, но не исследовал заговор в обычных романах, в жанре фэнтези или научной фантастики? Там есть заговоры?
— Я выбрал ранние образцы детективного романа, потому что ни один человек не может прочесть всю детективную или шпионскую литературу, настолько она огромна. Поэтому я исследую детективы изначальные. Но в своей книге указываю, что это очень важное явление, и вымышленные истории, основанные на расследовании, стали в значительной степени матрицей для современного романа, как, впрочем, и для кинофильмов. Для романа, который сам оказался в центре литературной деятельности, чего вовсе не случалось до XVIII века.
Можно сказать, что XIX век изобрел два больших жанра. Один из них это социальный роман в духе Бальзака, особенно во Франции, а также в Англии, хотя и несколько иначе, как например, у Диккенса. Сегодня по поводу Диккенса сказали бы, что речь идет о поэтическом реализме. Он показывает чувства людей по отношению к действительности, к обществу, но не акцентирует внимание на «общественных законах». Для французского романа XIX века характерно, что его писатели — Бальзак, Флобер, Золя — оказываются предшественниками социологии в ее самом позитивистском или детерминистском выражении. Они подчеркивают идею «общественной судьбы» и существование различных социальных групп, различных социальных классов и т. д. Возможно, Маркса вдохновило именно то, что он хорошо знал Францию. В этой литературе можно обнаружить теорию социальных классов, большей частью привнесенную, по моему мнению, Французской революцией.
В центре французского романа XIX века оказываются персонажи, воплощающие эти классы, и таким образом, изучая историю отношений между персонажами, мы как будто изучаем историю социальной жизни определенной страны, то есть классовых отношений в этой стране. Французский роман в силу своей типичности оказывается эдаким прецедентом социологии.
Другой очень важный вид романа XIX века, изобретенный русскими писателями, — это исторический роман. Что такое исторический роман? Это роман, чьей парадигмой, причем совершенно необыкновенной, выступает «Война и мир», в котором рассказываются одновременно малые истории из частной жизни отдельных людей и великие Истории огромных сообществ, каковыми являются нации и государства, низвергнутые в историю, то есть в войну. Эти большие исторические романы выявляют отношение между гигантомахиями, а именно — великими битвами России, русского духа, русской жизни с остальной Европой, и наномахиями (неологизм, изобретенный по аналогии с нанотехнологиями), то есть малыми историями, чьи нити постоянно вплетаются в нити великих Историй. То, что пытались, но так по-настоящему и не сумели сделать французы.
Датский литературовед Андерс Энгберг-Педерсен написал книгу под названием «Empire of Chance», которая мне очень нравится. Он в особенности интересуется проблемами, связанными с описанием баталий в XIX веке. По его мнению, войны и сражения не интересуют интеллектуалов XVIII века. Это дело горстки дворян, командующих армиями, в которых солдаты — очень бедные люди, годящиеся только для бойни; и это отнюдь не предмет литературы. Это стало предметом литературы после Французской революции и в особенности после войн Империи. У Фридриха Второго было пятьдесят тысяч солдат, Наполеон от Испании до России задействовал более пятисот или шестисот тысяч солдат. В кампаниях Наполеона уже принимают участие представители интеллектуальной элиты — например, Стендаль.
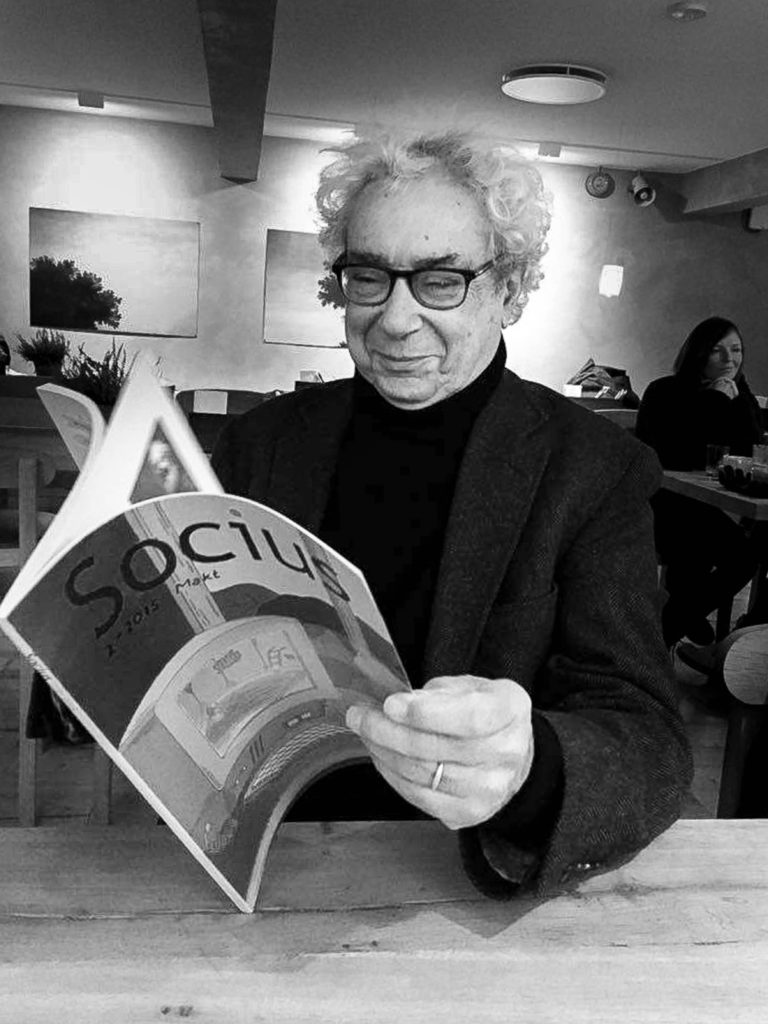 Андерс Энгберг-Педерсен анализирует трудности, с которыми столкнулись французские писатели, пытаясь описать сражение. Бальзак начал книгу под названием «Битва», но потерпел неудачу, потому что не сумел разрешить одну проблему, причем весьма интересную, поскольку она является одной из основных проблем социологии. Это проблема отношения между микросоциологией и макросоциологией. Если мы хотим описать битву, как нам следует ее описывать? С точки зрения полководцев, находящихся на возвышении и смотрящих сверху на то, что происходит внизу? Или с точки зрения еще более высокой, расположенной над возвышением с полководцами, с позиции from nowhere, где уже нет никого? Но тогда уже непонятно, кто именно наблюдает и кто рассказывает. Значит, следует описывать битву изнутри? Но тогда всей битвы уже не видно, видны лишь некоторые локальные стычки, видно, как скачут лошади, как кто-то сражен ружейным выстрелом и падает. Именно это в начале «Пармской обители» и описывает Стендаль, именно в этом пресловутая проблема Фабрицио при Ватерлоо. Проблема Фабрицио при Ватерлоо заключается в том, что этот персонаж восхищается императором, знает, что происходит великое сражение, хочет в нем участвовать, отправляется сражаться, но так и не понимает, действительно ли он участвует в этом сражении или нет. Его проблема сводится к вопросу «был ли я действительным участником битвы при Ватерлоо». Это проблема исторического сознания. «Я — исторический свидетель битвы при Ватерлоо? Или то, что я видел, — это всего лишь мелкие подробности, маркитантка со своей тележкой, скачущие лошади, которые тащат за собой мертвых всадников и т. д.». Осознание подобных проблем описания — одно из великих нововведений XIX века в области художественной литературы.
Андерс Энгберг-Педерсен анализирует трудности, с которыми столкнулись французские писатели, пытаясь описать сражение. Бальзак начал книгу под названием «Битва», но потерпел неудачу, потому что не сумел разрешить одну проблему, причем весьма интересную, поскольку она является одной из основных проблем социологии. Это проблема отношения между микросоциологией и макросоциологией. Если мы хотим описать битву, как нам следует ее описывать? С точки зрения полководцев, находящихся на возвышении и смотрящих сверху на то, что происходит внизу? Или с точки зрения еще более высокой, расположенной над возвышением с полководцами, с позиции from nowhere, где уже нет никого? Но тогда уже непонятно, кто именно наблюдает и кто рассказывает. Значит, следует описывать битву изнутри? Но тогда всей битвы уже не видно, видны лишь некоторые локальные стычки, видно, как скачут лошади, как кто-то сражен ружейным выстрелом и падает. Именно это в начале «Пармской обители» и описывает Стендаль, именно в этом пресловутая проблема Фабрицио при Ватерлоо. Проблема Фабрицио при Ватерлоо заключается в том, что этот персонаж восхищается императором, знает, что происходит великое сражение, хочет в нем участвовать, отправляется сражаться, но так и не понимает, действительно ли он участвует в этом сражении или нет. Его проблема сводится к вопросу «был ли я действительным участником битвы при Ватерлоо». Это проблема исторического сознания. «Я — исторический свидетель битвы при Ватерлоо? Или то, что я видел, — это всего лишь мелкие подробности, маркитантка со своей тележкой, скачущие лошади, которые тащат за собой мертвых всадников и т. д.». Осознание подобных проблем описания — одно из великих нововведений XIX века в области художественной литературы.
По-моему, можно сказать — эту мысль я отстаиваю в книге «Тайны и заговоры», — что изобретение детективного романа (еще одно великое нововведение) преимущественно английское, равно как и шпионский роман. Однако эти жанры станут главными романными жанрами XX века. Потому что в них установка делается на саму структуру реальности. И основной проблемой оказывается как раз то, что мы обсуждали относительно предыдущего вопроса: официальная действительность, та, которую мы видим, действительность официальных статусов и, скажем, социальных позиций, — это настоящая действительность? Как если бы я спросил у тебя: «Ты преподаватель Европейского университета или же на самом деле китайский шпион?» Подобная неуверенность в реальности становится сама по себе материей современного романа.
Натали Саррот опубликовала сборник эссе о современном романе под названием «Эра подозрения». Так вот мы действительно живем в мире подозрения. И если взять крупных современных писателей последних сорока лет, почти все они писали романы по образцу детектива. Это утверждение верно для крупных современных романов в Америке; это верно и во Франции, в случае с Патриком Модиано, который только что получил Нобелевскую премию: он пишет детективы в некотором смысле незавершенные, не дающие разгадки. Тему, которая меня занимает — но я не очень силен в философии, и, думаю, ты сумеешь раскрыть ее лучше меня, — можно сформулировать так: связь между этим беспокойством по поводу содержания реальности, беспокойством, заложенным в исходном детективном романе, и тем, что происходит в ту же самую эпоху в философии, в частности, вокруг проблемы референции, от Фреге до Рассела, затем у Витгенштейна.
— Еще один вопрос, немного поэтический или литературный. Конспирология — это побочная дочь эпохи Просвещения?
— Я бы сказал, что нет. Петер Слотердайк написал книгу, она уже давно переведена на французский... Кажется, это его первая книга...
— «Критика цинического разума»?
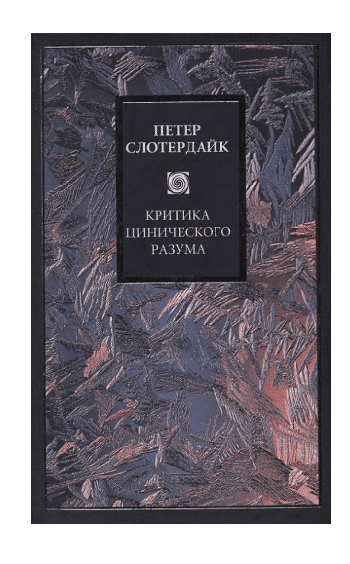 — Да. Очень интересная книга. Он задается следующим, совершенно классическим вопросом по поводу эпохи Просвещения: мыслители эпохи Просвещения предполагали, что общество и политика могут прочно держаться, основываясь на всеобщей разумности и на том распределении, которое она позволяет осуществлять? Что более или менее повторяет Хабермас. При демократическом обсуждении лучшие аргументы, ведущие к истине, должны в итоге победить и предложить устойчивую реальность, картина которой была бы принята всеми. Проблема, которую выдвигает Слотердайк в работе «Критика цинического разума», заключается в том, что этот проект сразу же провалился в том смысле, что аргументы, обоснованные разумом, не захватили все умы, а были отвергнуты в пользу других аргументов, в частности, аргументов, опирающихся на религиозность. То, что можно назвать духом Просвещения, оказалось перед выбором: признать, что считавшееся разумным оказалось куда менее эффективным, чем предполагалось; признать, что половину или три четверти человечества составляют полусумасшедшие (а такой соблазн у Просвещения все же был); выстраивать новую теорию отношения к реальности, намного более прагматичную, основанную уже не на семантике, а на контекстуальной прагматике, допускающей, что один и тот же человек может перейти от одного типа веры к другому в зависимости от ситуации, в которой он оказался.
— Да. Очень интересная книга. Он задается следующим, совершенно классическим вопросом по поводу эпохи Просвещения: мыслители эпохи Просвещения предполагали, что общество и политика могут прочно держаться, основываясь на всеобщей разумности и на том распределении, которое она позволяет осуществлять? Что более или менее повторяет Хабермас. При демократическом обсуждении лучшие аргументы, ведущие к истине, должны в итоге победить и предложить устойчивую реальность, картина которой была бы принята всеми. Проблема, которую выдвигает Слотердайк в работе «Критика цинического разума», заключается в том, что этот проект сразу же провалился в том смысле, что аргументы, обоснованные разумом, не захватили все умы, а были отвергнуты в пользу других аргументов, в частности, аргументов, опирающихся на религиозность. То, что можно назвать духом Просвещения, оказалось перед выбором: признать, что считавшееся разумным оказалось куда менее эффективным, чем предполагалось; признать, что половину или три четверти человечества составляют полусумасшедшие (а такой соблазн у Просвещения все же был); выстраивать новую теорию отношения к реальности, намного более прагматичную, основанную уже не на семантике, а на контекстуальной прагматике, допускающей, что один и тот же человек может перейти от одного типа веры к другому в зависимости от ситуации, в которой он оказался.
Если мы хотим непременно привязать конспирологию к эпохе Просвещения, то нужно обратиться к критике, поскольку одной из ее движущих сил была идея, согласно которой за иллюзорным образом, который демонстрирует социальный мир, существует истинный, но скрываемый социальный мир. В этом смысле воображение заговора — это один из инструментов критики, которая выявляет ложь власть предержащих и т. д. Но, с другой стороны, такой тип применения критики использовался прежде всего для борьбы против духа Просвещения. На это очень хорошо указывает тот факт, что власти извлекают пользу из теорий заговора преимущественно в случаях фашистских или тоталитарных режимов. Так, нацизм извлек огромную пользу из текста «Протоколы сионских мудрецов», который был сфабрикован русским шпионом в Париже в конце XIX века. Точно так же тоталитарные режимы, как их описывает Ханна Арендт, постоянно придумывали существование несуществующих заговоров, против которых следовало бороться. Тоталитарная власть опирается в частности на механизм, изучение которого поясняет очень многое и который сводится к следующему: каждому предписано следовать правильному курсу — курсу партии, то есть ее вождя — и каждый пытается следовать, но никто не знает, каков в действительности этот курс. Отсюда начинается процесс, подобный тому, который анализировал Жирар: ты подражаешь своему лучшему другу, поскольку думаешь, что он следует курсу, до того дня, когда на него доносят за то, что он на самом деле не следует курсу; тогда на него доносишь и ты, надеясь, что это позволит тебе следовать курсу и т. д. Этот процесс, который ты великолепно описал в своей работе об индивидуальном и коллективном в России, постоянно заставляет людей лгать и ссылаться на заговоры, потому что они одновременно пытаются спасти свою жизнь и продолжают верить, что курс правильный, на самом деле не зная, каков он. Например, роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана (я сейчас как раз его читаю), хорошо показывает, что тоталитарный режим в психологическом плане функционирует на чувстве вины. Виновны все и всё время: либо в том, что уклоняются от курса, либо, напротив, в том, что следуют его преступным требованиям.