Зачем власть в XVIII веке создала русскую литературу
Интервью с филологом Кириллом Осповатом — автором книги «Придворная словесность»
— Вы рассматриваете русскую литературу XVIII века через ее связи с политикой — чаще всего встречается именно такой подход к ней?
 Кирилл Осповат
Кирилл Осповат
— Это, пожалуй, основной способ чтения русской литературы XVIII века, который в силу политических и исторических причин то выходил на первый план, то отступал. Еще Г. А. Гуковский в монографиях 1930-х годов писал о том, как литература существует в политическом и социальном контекстах. Я начинал заниматься этими темами в семинаре А. Л. Зорина в РГГУ, как раз тогда, когда появилась его книга «Кормя двуглавого орла», возобновившая разговор о литературе и политике в XVIII веке. Когда я формулировал для себя то, что я могу добавить к этому разговору, мне важно было отрефлектировать историю этих волн и их соотношение: очень интересно понимать, как новые подходы соотносятся с тем, что говорили Г. А. Гуковский, Л. В. Пумпянский (очень важный для меня автор) и, конечно же, Ю. М. Лотман. Вся его большая концепция культурной эволюции XVIII–XIX веков, изложенная в работах разных лет и в посмертно изданной, почти незамеченной монографии «Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века», выстроена вокруг вопросов о политическом самосознании дворянства, семиотике власти и так далее. Моя книга продолжает этот разговор, соотнося выводы отечественных ученых с концепциями западных теоретиков и историков культуры, их современников — Норберта Элиаса, Вальтера Беньямина, Мишеля Фуко, Эрнста Канторовича и других.
— XVIII век довольно многообразен, как вы выбирали авторов и тексты?
— Я начал заниматься филологией из-за Ломоносова: он поразительный и сложный поэт, при этом уровень загадочности и недоступности его для читателя нашего времени меня всегда интересовал, интриговал и взывал к расшифровке. Начав вчитываться в Ломоносова, я, как и любой начинающий историк литературы, понял, что нужно осмыслять весь контекст, в котором он работал. (Надо сказать, что оды Ломоносова, самый сложный и важный эстетический феномен елизаветинского царствования, очень долго мне не давались, к ним я нашел свой ключ, в общем, в последний момент.) Елизаветинская эпоха в литературе была намного хуже описана, чем екатерининская. Мы много знаем о конфликтах и полемиках Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского, но каков был их контекст, на каком фоне они разворачивались? Это толком не изучалось с 1930-х годов, со времен Г. А. Гуковского и П. Н. Беркова. Когда я стал постепенно всматриваться в материал, стало понятно, что там можно сделать то, что с другими эпохами сделать сложнее, — составить общую картину, а не написать об одном авторе или течении. Там было не так много авторов и сочинений, поэтому можно очертить некий общий портрет той литературной эпохи, когда, как мне кажется, в России впервые начал формироваться институт литературы.
— Как вы считаете, в какой момент Ломоносов уходит на задний план и становится темным, непонятным автором? Как его вообще можно прочитать сегодня?
— Как его читать нынешним читателям, я не могу советовать: сейчас много разных читательских подходов и новейших критических интуиций, у меня нет тут авторитетной позиции. В какой момент он уходит на второй план? Это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, Ломоносов все время существует в тени Державина — как его предшественник. С другой стороны, для самого Державина Ломоносов был точкой отсчета, образцом. Есть, например, поздний Пушкин, который невысоко ставит стихи Ломоносова, хотя помнит о них, но ценит его письма Шувалову, то есть его способ отстаивать свою позицию при дворе, модели его социального самоутверждения. Наверное, поздний Пушкин — это один из последних исторических моментов, когда Ломоносов еще может считаться живой, актуальной моделью. Можно вспомнить, впрочем, некоторый культ поэзии XVIII в. в эпоху авангарда, Серебряного века и формализма; он дал нам, например, важнейшую работу Тынянова «Ода как ораторский жанр».
— В предисловии вы пишете, ссылаясь на классическую работу Петера Бюргера, что институт литературы в России начинает складываться в эпоху Елизаветы, но нам привычнее слышать, что он оформлялся уже в пушкинскую эпоху. Как осуществлялась профессионализация в рамках этого института?
— Все зависит от методологических оптик и определений, которые мы выбираем. Стихи и драмы в России начали писать задолго до елизаветинской эпохи, то есть речь идет не об объективной точке абсолютного начала, но о некоторых трансформациях, происходящих в определенный момент. В каком смысле институт литературы возникает в Елизаветинскую эпоху? В том смысле, что именно тогда формируется идея о том, что в успешной империи и при заслуживающем славы дворе есть такая функция — сочинение, издание и чтение изящной словесности. Если есть такая функция, то должны быть исполняющие ее люди. Появляется роль придворного поэта, а с нею — и читательская публика для таких сочинений. Бюргер понимает «институт литературы» как авторитетную нормативную конструкцию, которая назначает конкретным практикам сочинительства место в устройстве общества в целом и отсекает тексты и формы, сколь угодно многочисленные, которые в эту нормативную модель не вписываются. Иными словами, речь не о том, что все эмпирически существовавшие тексты елизаветинской эпохи сочинялись и читались при дворе — но только о том, что в этот момент складывается модель придворной литературы, которая в силу своей социальной локализации может убедительно объявить о своем главенстве.
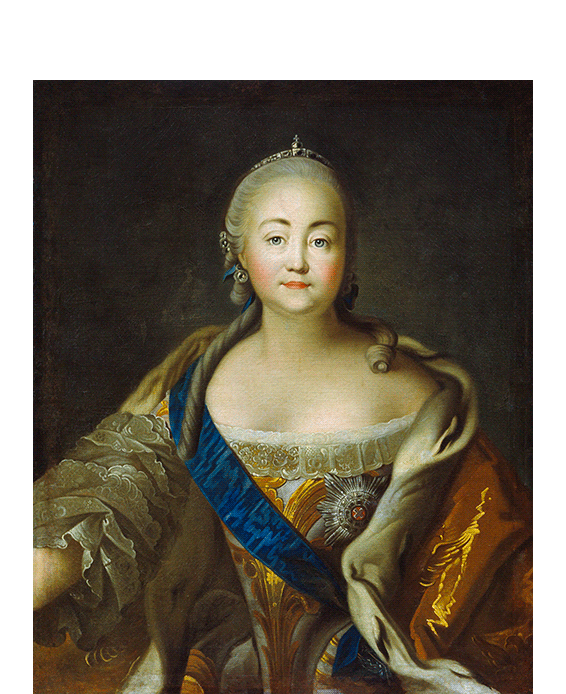 Портрет императрицы Елизаветы Петровны
Портрет императрицы Елизаветы Петровны
Что касается профессионализации, то здесь важно то, как мы определяем это понятие: если через коммерческие доходы на книжном рынке, то никакой профессионализации в елизаветинское царствование не было. Это слово я не употребляю в книге. Авторы елизаветинской эпохи начинают исполнять роль сочинителей, при этом у них есть другие роли: Сумароков и Кантемир, например, дворяне, наследственные члены придворной аристократии, состоящие на государевой службе. Замечательно, что при этом они оба по-разному подчеркивают свою поэтическую деятельность, особенно Сумароков, который растрачивает свой социальный капитал к концу жизни именно потому, что фиксируется на роли поэта, как показал В. М. Живов. В этом смысле некая новая констелляция, в которой возникает социальная роль писателя и поэта, складывается уже в елизаветинскую эпоху, но, конечно, не в связи с книжным рынком, как это будет происходить потом.
— В елизаветинскую эпоху очень важную роль играл патронаж. Расскажите о том, как складывались отношения между меценатом и автором.
— Это принципиально важный момент, который до сих пор недостаточно учитывался историками литературы, за исключением уже упоминавшейся работы В. М. Живова о первых русских литературных биографиях. Между тем в исторической реальности середины XVIII в. патронаж был важнейшим институтом. В литературоведческих исследованиях он может называться меценатством: даже терминология еще не устоялась. Все, кто читал о Ломоносове, знают про его отношения с Шуваловым. Я уже упоминал, что Пушкин очень ценил знаменитое письмо Ломоносова, где тот с гордостью объявляет, что не будет «шутом ниже и у царя небесного». Он отстаивает таким образом собственное достоинство в конфликте с Шуваловым, выбившимся из пажей фаворитом императрицы. Ломоносов предстает в этом эпизоде воплощенной независимостью. На самом деле социальная динамика здесь была намного более интересна и сложна. Великий немецкий социолог Норберт Элиас, на которого опираются мои выкладки, описал систему придворного общества, где индивидуальный статус зависит от положения в иерархии, на вершине которой находится монарх. Ты все время смотришь на кого-то, кто выше тебя, а те, кто ниже, смотрят на тебя. Твой статус определяется этой очень подвижной иерархической системой. С одной стороны, есть формальные иерархии родового статуса, табель о рангах, положение в службе, которые кажутся очень жесткими; с другой стороны, статус в них может стремительно меняться, потому что монарх может кого-то стремительно возвысить или, наоборот, отправить в опалу, и сходные механизмы действуют на всех уровнях. Тот, кто может тебя возвысить, — это твой покровитель, патрон. Патроны бывают не только у поэтов, они есть у всех в этой социальной системе. Тот, кому покровительствует патрон, называется клиентом. Этот термин стандартен в историко-социологических исследованиях, но в сегодняшних историко-литературных работах не очень хорошо известен. Ломоносов — и, наверное, все, кого мы знаем как литераторов этого времени, но в первую очередь Ломоносов, — были клиентами Ивана Шувалова. Мы думаем о Ломоносове как об авторе од или как о естествоиспытателе, профессоре Академии наук, но «клиент Шувалова» — не менее важное и осязаемое определение его социального положения в 1750-е годы.
 Иван Шувалов
Иван Шувалов
Шувалов, попавший в фавор в конце 1749 года и удерживавшийся в положении фаворита до смерти Елизаветы в 1761 г., решил, что ради личного престижа и ради престижа монархии он будет демонстративно покровительствовать «наукам» (это был собирательный термин для интеллектуальных занятий). Акцент при этом делался на изящных искусствах, театре и поэзии, которую традиционно ценили при европейских дворах. Соответственно, Шувалов становится покровителем всей елизаветинской литературы (это не так много фигур). Он поощряет сочинителей и надзирает за ними, проводит книги в печать, он может способствовать повышениям в чинах и прочим милостям. Ломоносов — самый успешный из его клиентов. Он очень умело культивирует свои отношения с Шуваловым, становится любимым и почитаемым клиентом; видно, что Шувалов его ценит и доверяет ему намного больше, чем Сумарокову, хотя Сумароков — дворянин и в каком-то смысле более «свой». Но Ломоносов, крестьянский сын, пришедший издалека и не очень умеющий себя вести в изящном обществе, оказывается намного более успешным в этой конкуренции за милость патрона. Важнейшим достижением Ломоносова на этом пути становится получение дворянства в 1751 году. По переписке заметно, как у него при этом меняется тон, как он становится другим человеком: до этого он был выбившимся в ученые крестьянским сыном, а теперь он дворянин, у него есть власть, имение и крепостные. Он становится членом правящего сословия, и уже с этим сознанием продолжает агрессивно делать карьеру. Так что патронаж оказывается тем социальным институтом, в рамках которого осуществляется поощрение литературной и вообще интеллектуальной деятельности — конечно, по западному образцу, где придворное покровительство изящной словесности входит в культурный канон.
— В какой момент система патронажа начинает себя изживать? В начале XIX века она ведь сохраняется так или иначе.
— Патронаж как таковой, как социальный механизм, наверное, не может исчезнуть. Меняется его роль как социальной базы для литературы: отношения покровительства вытесняются книжным рынком. Мы говорим, что в XIX веке писатель ориентируется не столько на патрона, сколько на анонимного читателя, который должен купить его сочинение. Анонимная публика, она же общественное мнение, оказывается главным арбитром литературной продукции. Однако в исторической действительности этот механизм работает со сбоями: мы понимаем, что далеко не у всех писателей получается жить литературными доходами. Этот механизм крайне ненадежен. Я не думаю, что патронаж исчезает как реальный феномен, скорее он просто отходит в тень. Есть пример Жуковского, который всегда был связан с придворным вкусом и придворными обстоятельствами, как показал в замечательной книге Илья Виницкий. Можно вспомнить еще раз о позднем Пушкине, который играет двойную роль. Он продает свои сочинения и создает журнал «Современник», обращенный к читающей публике и исследующий современную политическую и литературную ситуацию. Вместе с тем он оказывается при дворе, и тут он вспоминает о Ломоносове и его отношениях с патронами. В «Путешествии из Москвы в Петербург» он защищает Ломоносова и подобных ему писателей-клиентов от упреков в раболепстве и отказывается признать книжный рынок источником настоящей независимости. Он пишет: «Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN все-таки презрительны — несмотря на то что в своих книжках они проповедуют независимость».
— Какими качествами должен был обладать литературный текст, чтобы заслужить одобрение патрона в елизаветинскую эпоху?
— Дело не в одном патроне, а в целой системе придворного вкуса, которая как раз утверждается в России в елизаветинскую эпоху. Это значит, что складывается некоторая система суждений, набор критериев, при помощи которых любой придворный может составить суждение о литературном тексте, а также о вазе или картине. Литература одновременно обслуживает этот вкус и формирует его: поэты конкурируют между собой, а меценат и придворная публика выбирают между ними. Сам по себе этот механизм действует также и в ситуации рынка, только при дворе круг ценителей не анонимен и социально локализован: есть императрица, есть фаворит, есть другие придворные, которые ориентируются на их вкус — и вот от этих людей, которых писатель лично знает и наблюдает, зависит его карьерный успех и статус. Базовое требование к текстам, которое формулировалось в декларациях — поэзия должна прославлять монархию и императрицу. Но это требование не понималось буквально. Так, в важнейшем жанре трагедии, которому посвящена моя предыдущая книга, действуют монархи, но не сама безупречная Елизавета Петровна, а какие-то другие, абстрактные, полулегендарные правители, иногда даже тираны, лишающиеся трона, как в «Гамлете» или «Димитрии Самозванце» Сумарокова. При этом трагедия как жанр театральный и связанный с придворными увеселениями играет узловую роль в системе придворного вкуса.
 Александр Сумароков
Александр Сумароков
Сумароков начал писать трагедии в конце 1740-х, потому что Елизавета любила театр: при дворе была французская драматическая труппа и итальянская опера, иногда давались представления по-немецки и по-русски. Сумароков рассчитывал на то, что его драмы тоже будут ставить при дворе, и так и вышло: в 1756-м он даже стал первым директором «русского театра», то есть придворной русскоязычной труппы. Вместе с тем в 1750 г. императрица повелевает Тредиаковскому и Ломоносову написать по трагедии: у Сумарокова получается хорошо, и ей интересно, что получится у других. Ломоносов и Тредиаковский проигрывают в этом соревновании. Это очень интересный случай. Мы хорошо умеем смеяться над Тредиаковским и все им написанное воспринимать как совершенно бездарное. Его трагедия «Деидамия» очень длинна, стих его синтаксически сложен, и понятно, почему она не прижилась на придворном театре. С Ломоносовым интереснее: он написал две трагедии, которые современники считали неудачными, да и сам признавал, что трагедии у Сумарокова получаются лучше (а такие признания он делал нечасто, надо сказать). Сейчас нам непросто понять, чем его трагедии хуже: они написаны не менее звучными стихами в подражание тем же ценимым при дворе западным образцам, что и пьесы Сумарокова. Разницу между ними нам трудно заметить, а современникам она была очевидна. Мы не владеем всем инструментарием эстетической оценки той эпохи; исследовательски важно констатировать этот зазор, отдать себе отчет в том, чего именно мы пока не понимаем.
— Ни для кого не секрет, что русский XVIII век редко читают для удовольствия. Современный читатель почти наверняка будет смотреть на тексты того времени через призму более поздней литературы, то есть совсем другого опыта, — а как они функционировали в свое время, что сообщали? И каковы были читатели Тредиаковского и Ломоносова?
— Елизаветинская придворная литература существует не потому, что романтический автор изливает свою душу или нуждается в коммерческом заработке, а потому, что существует запрос наделенной властью аудитории. Этот запрос возникает, конечно, в результате петровских реформ, преобразовавших Россию «по западному образцу». На деле и придворная словесность, и даже придворный театр уже существовали в Москве при Алексее Михайловиче. В исторических кризисах конца XVII — начала XVIII в. эта придворная культура была разрушена, и потом постепенно заново воссоздавалась, в первую очередь в Петербурге, начиная с 1720-х годов, уже в духе западных мод и стилей. Как я пытаюсь показать в книге, международное соревнование за престиж было принципиально важным для формирования института литературы в России. Например, во время Семилетней войны Россия действовала в союзе с Францией, и в Париже публиковались материалы о том, что и в России тоже есть литература, а именно Сумароков и Ломоносов. Придворная литература оказывается, иными словами, важным элементом новой вестернизированной империи.
Чтение литературы внутри страны тоже вписано в имперский культурный проект. Новая словесность требует специальных навыков чтения художественной литературы: не серьезной и нравоучительной, не технической, философской или богословской, а романов, стихов и трагедий. Беллетристику читали и до этого, она ходила в рукописях, но теперь развлекательная литература канонизируется как часть официальной печатной культуры. В ней ставятся серьезные проблемы, но каким-то необязательным образом. Это развлекательное чтение: поэт не уполномочен всерьез учить, как верить в Бога или исполнять служебный долг; когда он это делает, то с меньшим авторитетом, чем, скажем, рукоположенный духовный автор.
Зачем нужно такое чтение? Зачем его канонизировать и культивировать? На этот вопрос отвечают многочисленные металитературные сочинения елизаветинской эпохи — сочинения, в том числе стихотворные, о том, что такое литература, как правильно сочинять и быть читателем. Самое известное из них — «Эпистола II, о стихотворстве» Сумарокова. Эти сочинения появляются в изобилии в тот момент, когда не так много людей интересуются сочинением стихов; это значит, что в них только создается модель существования литературы при дворе и в государстве — и действительно, дворяне и ученые плебеи начинают учиться писать стихи по руководствам Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского.
Чему же они учат? Важную роль играла категория пользы, описывающая правильное существование подданного, в первую очередь служащего дворянина (а служат до 1762 г. все дворяне), в государстве. Государство само в этот момент отчасти существует как нарратив, дискурсивный конструкт, у него нет столь масштабного бюрократического аппарата, как сейчас. Пропагандирумое в нравоучительных сочинениях понятие пользы подчиняет существование дворянского сословия этому концепту государства. Вместе с тем есть понятие досуга, которое вводится одновременно с «пользой» — например, в знаменитом петровском указе об ассамблеях 1718 года. Нужно не только служить, но и отдыхать, однако этот отдых должен оставаться «полезным». Досуг тоже подчиняется ценностям службы, оказывается еще одной дисциплинарной категорией, вводимой сверху по западным образцам. Вся жизнь дворянина должна состоять из службы и досуга и складываться таким образом в идеал служащего человека, который и свободное время «не тратит даром», то есть не выходит за рамки нормативного поведения. В таком понятии досуга чтение получает принципиально важную роль. Мы об этом знаем, потому что у нас есть литература учебников поведения, которые регламентируют самые разные вещи, в том числе чтение. Оно должно быть урегулировано: не стоит читать что угодно, нужно читать только правильные книги, не очень много, правильно их отбирая. Это литература, которая развлекает и одновременно наставляет. Такие книги приятно читать, но они все равно внушают читателю основы дисциплинарной морали: подчинение властям, любовь к монарху и патронам, исполнительность, терпение и т. п.
Придворная словесность возникает в ответ на этот нормативный запрос, который, конечно, не исходит прямо от дворянских масс, в тот момент еще не очень грамотных. Весь этот культурный проект навязывается им сверху, мы видим эту динамику еще в «Недоросле» Фонвизина, написанном десятилетия спустя. Когда при дворе задумываются о воспитании нации, то возникает идея, что нужно писать и печатать такие книги, которые можно было бы таким способом читать. Мы видим, что это происходило именно так, по деятельности Шувалова, который в качестве основателя и куратора Московского университета завел при нем типографию и стал там печатать соответствующие его целям книги, в том числе сочинения Ломоносова. Кроме того, при университете стал выходить литературный журнал «Полезное увеселение», название которого представляет собой формулу этой литературной педагогики: читатель журнала должен увеселяться таким образом, чтобы получать и приносить пользу. Чтение этих сочинений — часть того же педагогического проекта воспитания дворянства для службы отечеству, что и сам Московский университет. Державин, учившийся в подведомственной Московскому университету Казанской гимназии, вспоминает, как к ним в Казань присылали столичные издания. Ученики гимназии читали эти книги — стихи Ломоносова, трагедии Сумарокова и даже переводные любовные романы, — и весь этот литературный корпус оказывался встроен в процесс воспитания нового подданного, будущего дворянина. Ради этого создавался придворный институт литературы. Подчеркну еще раз, что он не совпадал с реальными практиками широкого бытования и потребления разнообразной рукописной литературы, о которой нужно написать совсем другую книгу.
— Хорошо известна политическая подоплека оды — она была частью императорских торжеств. А каково место других жанров в этой системе координат в елизаветинскую эпоху и можно ли вообще говорить о том, что какой-то жанр был важнее остальных?
— Наверное, так сказать не получится. Два базовых непереводных придворных жанра в елизаветинскую эпоху — это ода и трагедия, условно распределенные между Ломоносовым и Сумароковым (хотя Сумароков тоже писал успешные оды). Вопросы конкуренции авторов и жанров мне были менее важны, чем очертания системы, которая их порождает. Внутри этой системы жанры отвечают за разные участки, по-разному оформляют материал, у них разные риторические установки, однако они вписываются в некоторое общее представление о том, чем должна быть новая литература. Помимо оды и комедии, есть жанр сатиры, с которым последовательно работает Кантемир. У сатиры был парадоксальный статус. Сегодня, когда мы говорим «сатира», подразумевается, что мы имеем дело с критикой существующих порядков; на самом деле все устроено сложнее. Первые сатиры Кантемира носят памфлетный характер, они вписаны в полемику придворно-церковных групп, а сам Кантемир скрывает свое авторство. Потом он осуществляет перекодировку жанра, и сатира оказывается формой квазиофициального поучения, продиктованного структурой петровских реформ: если вся страна живет неправильно и ее нужно переучить, то насмешки над повседневными порядками приобретают характер не критики режима, но его воспитательного инструмента. Кантемир поэтому пытается получить для своих сатир августейшую санкцию и выпустить их с посвящением монархине (сначала Анне, потом Елизавете).
Сатира обращена сверху вниз, от имени властей и образованных элит к широкой непросвещенной публике. Комедии пишутся в похожей логике: в том же «Недоросле» хорошо заметен этот момент обращения к низшим слоям дворянства от имени государства. (Осуждение придворных порядков, которое можно найти и в сатирах Кантемира, и в «Недоросле», не противоречит этой базовой установке: двор, как и другие общественные институты, подлежит критике во имя дисциплинарной нормы.) Кантемир разрабатывает жанр сатиры и добивается успеха: его сочинения читают, он имеет статус первого русского поэта. Он старается обратить сатиры в подспорье для карьеры и вместе с тем легитимирует литературное сочинительство своим высоким статусом: он очень знатен, чуть ли не голубых кровей, и занимает важные дипломатические должности. Когда такой человек не стыдится писать сатиры и посвящать их императрице, сочинение стихов получает новый статус в придворной иерархии. Однако после смерти Кантемира выясняется, что эта жанровая модель совершенно непродуктивна, хотя его собственный авторитет долго сохраняется. Можно переводить и печатать сатиры Горация, можно с почтением читать сатиры покойного уже Кантемира, — но все равно получается, что сатирический способ говорения об актуальной действительности не подходит к структуре придворного и абсолютистского общества. Такая речь не работает правильным образом, поэтому сатира, с которой все начинается, уходит на второй план. Она не совсем исчезает — Сумароков публикует немногочисленные сатиры и в елизаветинскую эпоху, и позже — но она больше не оказывается в центре литературы, хотя Кантемир сознательно и стратегически выстраивал идею придворной литературы именно вокруг сатиры. Сатира была стихотворным эквивалентом учебников поведения, и могло казаться, что это и есть главный жанр для воспитания подданных, но такая модель не сработала. И тогда на первый план вышли жанры, намного более тесно связанные с культурой придворного увеселения: ода и трагедия.