Зачем демоны послали нам Ника Ланда?
Рассказывает переводчица «Киберготики» Диана Хамис
Как известно, мифически-легендарный кибертеоретический ураган по имени Ник Ланд умер в самом конце 1990-х, заживо съеденный лемурйискими демонами извне времени и оставивший после себя зубоскалящего немолодого мужчину крайне правых убеждений, все еще копающегося в каббале и все еще способного писать чертовски крутые тексты. Когда несколько лет назад я спросила у этого мужчины, что же мне делать с его ранними работами и как мне сопоставлять их с тем, что он пишет сейчас — то есть как мне вообще быть с его безвременной кончиной энное количество лет назад и как понять, что умерло, а что осталось, его ответ был однозначным: делай с ними что хочешь и воспринимай мою смерть как хочешь, я действительно мертв, да и все мы умираем регулярно, порубленные временем как птицы, попавшие в турбину самолета. Это был очень честный ответ, но меня он не устроил. Очевидно, я не понимала, что именно хочу делать с его текстами, да и не понимаю до сих пор. Ясно одно: тексты Ланда обладают каким-то нервным и слегка опасным манящим эффектом, почти как космос, темный лес, глубокое море, трупы, гигантские австралийские пауки и прочее странное, неопределенное или многоногое. С тех пор я не раз залезала в ту самую самолетную турбину, порубившую Ланда на колбасу — она еще полна красивых косм мяса и осколков костей, и там есть чем поживиться, во всех смыслах. Залезем же в нее еще раз, устроив исследование останков — может быть мы что-нибудь да поймем.
Овсянка, сэр!
Просунем голову в (теперь уже) остановившуюся и разломанную турбину: у ее края мясо высохло, а подкожный жир местами превратился в золотистые хлопья. Если мы хотим понять, с чего все началось, нам надо отправиться в прошлое и отдаться генеалогии. Тупой как пробка рефрен об овсянке, газонах, чинных чаепитиях и прочих «чисто английских» вещах несет в себе крупицу правды — он являет нам, что все эти истошно-провинциальные вещи скучны как и он сам, и так же скучна английская провинция.
Уорикский университет, в котором Ланд развернул свою кипучую мыслительную деятельность, находится примерно нигде, и в нем в начале девяностых — во всяком случае до того, как деятельность развернулась — не происходило примерно ничего. Ландшафт самого обычного философского факультета, если верить бывшим студентам Ланда, состоял из самых обычных академических вещей: умные дяди разбирали по буквам всяких других, давно умерших, умных дядей. Обучение философии подразумевало систематический отчет о том, кто что когда почему сказал, а философы занимались инвентаризацией этих высказываний. Справедливости ради замечу, что ничего по умолчанию плохого в таком подходе к обучении философии нет. Но Ланду было неистово скучно. Уорикский университет был, внезапно, интереснее многих: один из работающих там философов, Эндрю Бенджамин, описал свой факультет как «невероятно-фантастический факультет философии, где делезианцы уживаются с дерридарианцами и даже с аналитическими философами. В основном, тут не делают никакого постмодернистского дерьма, все это достаточно строгие вещи». В целом, эта «фантастика» происходила отчасти благодаря Ланду: на факультете благосклонно относились к французской философии, литературно-философским кроссоверам и даже вычислительно-кибернетическим исследованиям (пусть и рассматривая их как «строгие вещи», а не то, что хотел бы учинять сам Ланд).
Ланду было интересно все это, потому что серьезно он относился только к одному виду деятельности: экспериментальному. Я не могу утверждать, что «знаю» того, в чьем мясе мы сейчас копаемся, но из воспоминаний его студента Робина Маккея, основателя издательства «Урбаномик», становится ясно: Ланд был смертельно серьезным приверженцем доведения всего до абсурда, принимая инновационный потенциал философии за абсолютно чистую монету, при этом относясь к этому потенциалу совершенно бесцеремонно. Другими словами, дело обстояло так: философия (по крайней мере спекулятивная) на голубом глазу исторически стремилась стать всеобъемлющей и докопаться до абсолюта. Даже отказавшись от значительной доли спекуляций философия все еще преподносит себя как источник неумолимых инсайтов, истин и прочей как будто бы экзистенциально (а может и трансцендентально) важной мудянки. Наделить это занятие тем пафосным статусом, на который оно претендует, было бы смехотворно — ни о каких абсолютах и вечных истинах речи «на самом деле» не идет. Мы имеем, в лучшем случае, мысленные эксперименты и довольно муторное раскапывание вечных проблем. Но списывать эти усилия со счетов почти преступно, потому что, раскапывая проблемы, мы, возможно, натолкнемся на что-то стоящее, произведем что-то новое, да и в любом случае, нам не будет скучно. В этой постоянной погоне за следующим экспериментом, в котором откроется что-то новое, Ланду было мало тех «строгих вещей», которые несли клеймо одобрения Уорикского университета. Он хотел и дерьма — куда без него, особенно если учесть, что нет дерьма априори (практически по определению).
 Именно поэтому — то есть чтобы исследовать клоаку культурного производства — и была организована серия конференций Virtual Futures («Виртуальные Будущности»), в которых странные философы и современные художники обсуждали искусственный интеллект, киборгов и киберпространство, телепатию, апокалипсис и прочие животрепещущие темы, чуждые мейнстримной академии даже сейчас, а уж тогда и подавно. Доклады и обсуждения перемежались перформансами, а ночами, для поддержки финансирования конференции, студенты становились диджеями и играли джангл, транс и хаус для участников и всех желающих. Первая VF состоялась в 1994 и на нее пришли около 30 человек, но уже через год их было скорее 300, о конференции написала The Guardian, и ее стали называть «киберкультурной Гластонбери». Для тех же целей была создана Группа Исследования Кибернетической Культуры (ГИКК или CCRU). ГИКК выросла из курса о современной французской философии, который читал Ланд, и состояла главным образом из его студентов. «Официальной» (насколько это вообще было возможно) исследовательской группой она стала в 1995 году, когда Уорикский университет взял на работу киберисследовательницу Сэди Плант. На тот момент философский факультет Уорика стал популярен среди абитуриентов, причем именно благодаря экспериментальным выходкам Ланда. Наняв Плант, университет решил сделать ставку на этот экспериментальный курс, о чем конечно же быстро пожалел. ГИККи организовали третью VF, повысив градус перформансов, и, вдохновившись кажущейся институциональной поддержкой, начали пытаться защищать диссертации о мультиках, джангле, репликантах и прочих странных, по мнению университета, вещах. Внезапно Уорику стало ясно: то, чем занимаются Ланд и Плант, не является философией вообще. В ответ на регулярные требования обосновать свою деятельность Плант ушла и напряжение между группой и факультетом стало расти, так что в конце концов ГИКК переселился из университета в дом, по слухам когда-то принадлежащий Алистеру Кроули. Переселение здесь было вполне буквальным — ГИККи вместе жили в этом доме. Их академическим делам совершенно не помог тот факт, что Ник Ланд уже долго и упорно «ускорялся», используя для своих экспериментальных пируэтов мысли «священное вещество амфетамин». Упарывался он в том числе и в своем кабинете, амфетамином и не только, один и со своими студентами, заклеивая замочную скважину изолентой. Но ушел Ланд из Уорика не поэтому: в 1997-м, из-за конфликтов с университетом, ГИКК решил провести свою очередную конференцию Virotechnics («Виротехники») вне университета, и, чтобы отправиться на нее, Ланд пропустил собрание в университете, организованное исключительно для того, чтобы он «объяснился». Объяснения не вышло, а вот увольнение — вполне.
Именно поэтому — то есть чтобы исследовать клоаку культурного производства — и была организована серия конференций Virtual Futures («Виртуальные Будущности»), в которых странные философы и современные художники обсуждали искусственный интеллект, киборгов и киберпространство, телепатию, апокалипсис и прочие животрепещущие темы, чуждые мейнстримной академии даже сейчас, а уж тогда и подавно. Доклады и обсуждения перемежались перформансами, а ночами, для поддержки финансирования конференции, студенты становились диджеями и играли джангл, транс и хаус для участников и всех желающих. Первая VF состоялась в 1994 и на нее пришли около 30 человек, но уже через год их было скорее 300, о конференции написала The Guardian, и ее стали называть «киберкультурной Гластонбери». Для тех же целей была создана Группа Исследования Кибернетической Культуры (ГИКК или CCRU). ГИКК выросла из курса о современной французской философии, который читал Ланд, и состояла главным образом из его студентов. «Официальной» (насколько это вообще было возможно) исследовательской группой она стала в 1995 году, когда Уорикский университет взял на работу киберисследовательницу Сэди Плант. На тот момент философский факультет Уорика стал популярен среди абитуриентов, причем именно благодаря экспериментальным выходкам Ланда. Наняв Плант, университет решил сделать ставку на этот экспериментальный курс, о чем конечно же быстро пожалел. ГИККи организовали третью VF, повысив градус перформансов, и, вдохновившись кажущейся институциональной поддержкой, начали пытаться защищать диссертации о мультиках, джангле, репликантах и прочих странных, по мнению университета, вещах. Внезапно Уорику стало ясно: то, чем занимаются Ланд и Плант, не является философией вообще. В ответ на регулярные требования обосновать свою деятельность Плант ушла и напряжение между группой и факультетом стало расти, так что в конце концов ГИКК переселился из университета в дом, по слухам когда-то принадлежащий Алистеру Кроули. Переселение здесь было вполне буквальным — ГИККи вместе жили в этом доме. Их академическим делам совершенно не помог тот факт, что Ник Ланд уже долго и упорно «ускорялся», используя для своих экспериментальных пируэтов мысли «священное вещество амфетамин». Упарывался он в том числе и в своем кабинете, амфетамином и не только, один и со своими студентами, заклеивая замочную скважину изолентой. Но ушел Ланд из Уорика не поэтому: в 1997-м, из-за конфликтов с университетом, ГИКК решил провести свою очередную конференцию Virotechnics («Виротехники») вне университета, и, чтобы отправиться на нее, Ланд пропустил собрание в университете, организованное исключительно для того, чтобы он «объяснился». Объяснения не вышло, а вот увольнение — вполне.
К тому времени о Ланде ходили легенды среди студентов и не только: про то, что он явился из будущего или восстал из мертвых, про то, что его находили в канаве обдолбанным кетамином, про то, что он жил в своем кабинете и говорил исключительно цифрами, и так далее. По интернету ходил даже чей-то рассказ о том, как рассказчик, явившись на конференцию в Уорик, был встречен тощим мужиком, который немедленно попытался угостить его джойнтом, сам скурил джойнт, когда рассказчик отказался, и отправился на подиум, когда студенты-организаторы объявили, что следующим будет выступать Ник Ланд. Что из этого всего правда, а что нет — понять сложно, особенно если не упускать из виду, что с катушек Ланд действительно в какой-то момент слетел. Как бы то ни было, после этого «расплавления» он эмигрировал в Азию, женился на своей бывшей студентке Анне Гринспан и завел двоих (милых, без рогов и копыт) детей. Теперь он работает редактором англоязычного издательства в Китае. Его студенты, а также другие люди, с которыми он вступил в интеллектуальный контакт, стали известными философами (Фишер, Грант, Брасье), медиа-теоретиками (Паризи, Фуллер) писателями (Эшун, Кунзру), издателями (Маккей), музыкантами (Kode9, 0rphan Drift) и сохранили толику экспериментальной императивы, которую завещал им их бывший учитель.
Танец
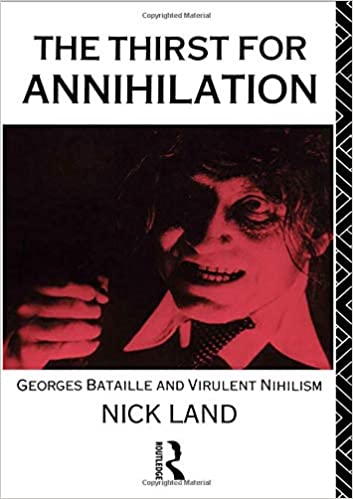 Пролезем дальше в нашу турбину, прямо туда, где еще подрагивают свисающие сгустки крови и мозгов. Рассматривая эти блестящие бляшки, вспоминаешь монографию Ланда Thirst for Annihilation («Жажда уничтожения»): «Преуспеть в написании какой-либо вообще книги о Батае — уже гадость, потому что только в запутанных промежуточных пространствах провала может разворачиваться контакт, взаимодействие и — в пределе — та чуждая эго близость, которую он называет „коммуникацией”». Написать книгу о Батае или Ницше, по мнению Ланда — глупая затея, обреченная на провал. Никому не важно и не интересно, что некий пафосно-аффилированный человек средних лет думает о них, и вообще, дело не столько в том, что они написали, сколько в том, что они сделали, станцевали, и как именно легли их внутренности, кровь, прах на пути к нам, глупым потомкам. Другими словами, с Батаем и Ницше — да, вы, наверное, поняли, и с Ландом — можно делать только то, что делаем мы сейчас: залезть в мерзкую, окровавленную самолетную турбину и копаться там в ошметках, оставшихся от проваленной дионисийской оргии. Текст из этого — так себе. Запоздалое извинение (которое, впрочем, меня не останавливает).
Пролезем дальше в нашу турбину, прямо туда, где еще подрагивают свисающие сгустки крови и мозгов. Рассматривая эти блестящие бляшки, вспоминаешь монографию Ланда Thirst for Annihilation («Жажда уничтожения»): «Преуспеть в написании какой-либо вообще книги о Батае — уже гадость, потому что только в запутанных промежуточных пространствах провала может разворачиваться контакт, взаимодействие и — в пределе — та чуждая эго близость, которую он называет „коммуникацией”». Написать книгу о Батае или Ницше, по мнению Ланда — глупая затея, обреченная на провал. Никому не важно и не интересно, что некий пафосно-аффилированный человек средних лет думает о них, и вообще, дело не столько в том, что они написали, сколько в том, что они сделали, станцевали, и как именно легли их внутренности, кровь, прах на пути к нам, глупым потомкам. Другими словами, с Батаем и Ницше — да, вы, наверное, поняли, и с Ландом — можно делать только то, что делаем мы сейчас: залезть в мерзкую, окровавленную самолетную турбину и копаться там в ошметках, оставшихся от проваленной дионисийской оргии. Текст из этого — так себе. Запоздалое извинение (которое, впрочем, меня не останавливает).
Если вернуться к «Жажде» и все же прочитать написанное в ней, то мы увидим — хотя философия академическая, к которой Ланд относился с крайним презрением, является «истязательством» либидо, философия как эксперимент выступает его источником — «основным источником исследовательского либидо». Однако, чтобы избежать «истязательства» либидо, надо спустить его с поводка, дать ему возможность растечься по времени и пространству своим детерриторизующим потенциалом. Другими словами, следует убрать ограничения и подорвать ранее установленные рамки для достижения максимального экспериментального эффекта. Какие рамки следует подорвать? Ответ на этот вопрос также в турбине — если присмотреться к темноте и мясу, можно увидеть светящийся оскал черепа Иммануила Канта (так вот куда он делся!). Этот же самый оскал просматривается с каждой страницы «Клыкастых ноуменонов», сборника текстов, выпущенного издательством «Урбаномик» в 2006 году: Кант рассматривается как главный противник и главная проблема, впрочем, конститутивная для ландовской мысли. Ланд настаивает, что кантовские трансцендентальные структуры (включая, конечно же, единый трансцендентальный субъект) не основываются ни на чем, кроме кантовской апелляции к ним. Кант подходит к философии как законодатель, желая покончить с угрожающим мышлению беззаконием и безосновательностью. Таким образом, он учреждает правила, которым надлежит следовать в мышлении, и, сведя их в три «Критики», он с облегчением вздыхает: теперь мышление будет вести себя хорошо, раз уж мы постановили, как ему надлежит себя вести. Ланд рассматривает философию в целом сквозь эту же призму: как решение или постановление, а не доктрину, в некотором смысле следуя своим друговрагам немецким идеалистам. Но если у последних (например, у Шеллинга) решение философствовать вообще, а также решение философствовать тем или иным образом являются свободными, для Ланда свобода едва ли возможна, так как она всегда связана с трансцендентальным субъектом, который он стремится дискредитировать и подорвать. Но решение некоторого рода все еще остается: перед неким «началом» мышления нашему животному разуму задается некий «курс», некие вводные данные для выполнения программы, пусть и несвободным образом.
Формируя курс программы своего естественного интеллекта, Ланд задавался желанием подорвать как можно больше — в частности, само мыслящее «я». В этом желании, претворенном в практику, соединились щедрая толика ницшеанства с его фрагментацией субъекта, разнообразная наркотическая практика Ланда и коллективность ГИКК. Решение, выбранное Ландом, заключалось в том, чтобы «выбраться» из своего я, посмотреть на него извне и понять, что оно так никогда и не было единым. Для подрыва иллюзии единства Ланд и ГИКК стремились «освободить» свое бессознательное, рассматривая его в качестве кишащего роя импульсов. Субъект затем предстояло детерриторизовать, используя бессознательное как некую модель. Наркотики и работа ГИКК играли здесь ключевые роли: в коллективных писательских и мыслительных практиках участники ГИКК действовали от имени неких других личностей или даже демонических сил, деперсонализуясь и сливаясь заново. Машинное бессознательное разбирало кантовского субъекта по кусочкам. Это было похоже на шаманизм, на временную одержимость или раздробленность во имя достижения когнитивных открытий и изобретения новых практик. Практики были особенно важны. ГИККи писали экспериментальные тексты, миксовали треки, придумывали ритуалы и перформансы, потому что делать было намного важнее, чем мыслить. Эти самые их «делания» становились культурным производством, куда более меметичным, чем голые абстрактные философские идеи, и именно благодаря этому культурному производству в турбине что-то осталось и до сих пор. ГИКК и Ланду было важно производить вирусы, viral stuff, которыми заразились бы поэтки из Австралии, инженеры из Ирана, коллективы отовсюду. И да, было заражение.
Метод
Хотя я очень давно читаю и перечитываю Ланда, хотя я несколько лет переводила его тексты (и еще буду переводить), я совершенно бесстыдно признаю, что ни черта не помню их содержания. Я даже не знаю, важно ли оно все — бунт против кантовского закона, тотально-детерриторизующее прочтение Делеза и Гваттари, ченнелинг либидинальности Батая, цитирование сцен из второго «Терминатора» через страницу. Из текстов Ланда живее всего запоминается его метод, который, в свою очередь, формируется его провокационными стилистическими маневрами. Тексты Ланда и ГИКК написаны так, чтобы главным образом возбуждать то самое либидо мысли. Говоря проще: они выстроены не столько чтобы читатель что-то понял, сколько ради разжигания любопытства. Любопытство также выступает главным двигателем самих текстов: они всецело направлены на то, чтобы узнать: что будет, если мы подумаем ту или иную мысль до упора, доведем ее до предельного абсурда, попытаемся извлечь самые эзотерические результаты. «Результаты» здесь означают сам текст или же исход художественной практики, а вовсе не выводы: выводы не важны, и знание тоже. Важно становление-иным — оборотнем, крысой, лемуром, демоном, змеей.
Именно поэтому в турбине, помимо мяса и костей, можно заметить звериные шкуры, когти руконожек и кишащую массу жирных червей. Они нечеловеческие агенты «hyperstition»: понятия, крайне скверно переведенного на русский как «гиперверие» (конкретно к этому переводу термина я не имею никакого отношения). Hyperstition — слово, сконструированное из «hype» (хайп) и «superstition» (суеверие), используя параллель между приставками «super-» и «hyper-» для создания игры слов. C помощью этого «хайповерия» создавались самые интересные экспериментальные теори-фикшн-произведения Ланда и ГИКК. Для работы использовались, концептуальные персонажи — шпионы, члены тайных обществ, колдуны, этнографы и жулики, становясь которыми ГИККи коллективно придумывали системы мифов. Иногда использовались уже существующие фигуры. Так, для описания столкновения с кишащим неизвестностью детерриторизованным бессознательным использовались фигура Курца из романа Конрада «Сердце тьмы» и фигура автора «Некрономикона», безумного араба Абдула Альхазреда. Хайповерие, однако, подразумевает, что мифы, придуманные в ходе применения метода, сами себя претворяют в реальность, отчасти за счет их коллективного авторства и вирусного распространения, а отчасти — за счет подстраивания совпадений. Некоторые «хайповерческие» практики были больше похожи на оракульные или шаманические, а некоторые другие прибегали к сочинению и распространению теорий заговора, чтобы продемонстрировать реальность мифов. Однако вера как таковая не играла в хайповерии никакой роли, и мифы оказывались «подвешенными» в своей реальности и безусловно мифическими, больше похожими на очень серьезную игру, чем, скажем, на религию.
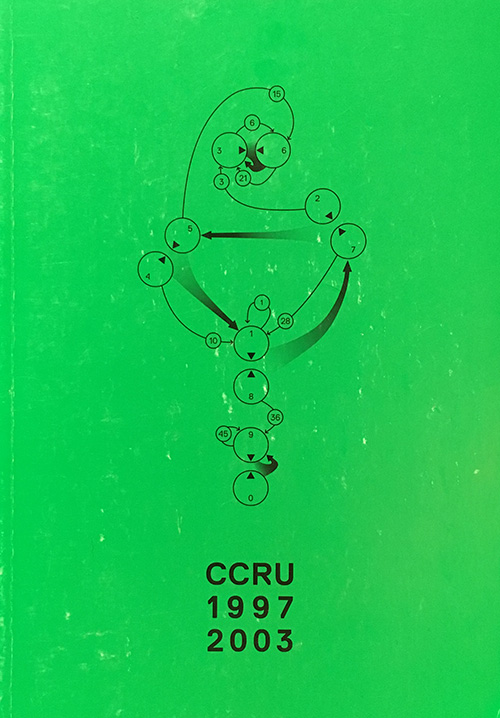 Созданных Ландом и ГИКК в этом ключе персонажей можно поделить на две группы. Они определяются тем пространством, в котором они помещаются. Первая группа действовала в кишащих жизнью джунглях Суматры, хаотичном пространстве тропического леса, где постоянно и буйно совокупляются и умирают разнообразные твари. Для этого пространства Ланд придумал целый народ — «Нма», практикующий временное колдовство, вместе с соответствующим пандемониумом духов и сводом ритуалов, позволяющих вызывать безумие, путешествовать во времени и предсказывать будущее. Также были придуманы целые группы исследователей и офицеров, которые изучали ритуалы Нма, использовали их в стратегических целях и иногда оказывались одержимыми демонами. Чтобы усилить градус хайповерия, мифы щедро приправлялись реальностью: например, в своде хайпотекстов есть переписка этнографини Ехидны Стиллвелл с Карлом Густавом Юнгом, где они обсуждают магию и помешательство. Действие второй группы «хайповерческих носителей» (hyperstitional carriers) разворачивалось в киберпространстве, которое Ланд рассматривал как пример плоского открытого пространства — плана имманенции, если говорить по-делезиански. Киберпространство привлекало ГИКК не только своей открытостью, но и феноменом «виральности». Черведемоны, вирусы и роящиеся насекомые тропического леса могут, как оказалось, вполне органично переселиться в киберпространство, где есть свои worms, bugs и прочая цифровая нечисть. Туда же могут переселиться люди, ищущие в киберпространстве новую реальность, пытающиеся увидеть будущее, вступить в контакт с внешними силами или же просто раствориться в нулях и единицах. Здесь орудуют репликанты и безумные, зараженные червями киборги-ученые, слившиеся с искусственным интеллектом, а вместо переписки с Юнгом мы находим комментарии профессора MIT Марвина Минского и винерианцев-кибернетиков.
Созданных Ландом и ГИКК в этом ключе персонажей можно поделить на две группы. Они определяются тем пространством, в котором они помещаются. Первая группа действовала в кишащих жизнью джунглях Суматры, хаотичном пространстве тропического леса, где постоянно и буйно совокупляются и умирают разнообразные твари. Для этого пространства Ланд придумал целый народ — «Нма», практикующий временное колдовство, вместе с соответствующим пандемониумом духов и сводом ритуалов, позволяющих вызывать безумие, путешествовать во времени и предсказывать будущее. Также были придуманы целые группы исследователей и офицеров, которые изучали ритуалы Нма, использовали их в стратегических целях и иногда оказывались одержимыми демонами. Чтобы усилить градус хайповерия, мифы щедро приправлялись реальностью: например, в своде хайпотекстов есть переписка этнографини Ехидны Стиллвелл с Карлом Густавом Юнгом, где они обсуждают магию и помешательство. Действие второй группы «хайповерческих носителей» (hyperstitional carriers) разворачивалось в киберпространстве, которое Ланд рассматривал как пример плоского открытого пространства — плана имманенции, если говорить по-делезиански. Киберпространство привлекало ГИКК не только своей открытостью, но и феноменом «виральности». Черведемоны, вирусы и роящиеся насекомые тропического леса могут, как оказалось, вполне органично переселиться в киберпространство, где есть свои worms, bugs и прочая цифровая нечисть. Туда же могут переселиться люди, ищущие в киберпространстве новую реальность, пытающиеся увидеть будущее, вступить в контакт с внешними силами или же просто раствориться в нулях и единицах. Здесь орудуют репликанты и безумные, зараженные червями киборги-ученые, слившиеся с искусственным интеллектом, а вместо переписки с Юнгом мы находим комментарии профессора MIT Марвина Минского и винерианцев-кибернетиков.
Из вышеописанного следует, что в рамках хайповерия было крайне важным подрывать существующие культурные практики и изобретать новые, которые затем практиковались Ландом и соучастниками. Помимо оккультных практик, особого внимания здесь заслуживают практики математические. Ланд, как и большинство других условно континентальных философов, считает, что реальность не поддается математизации, но только из-за ошибочности обычных математических практик. Таким образом, недоверие к математическому и традиционному материалистическому мышлению в случае Ланда не превратилось в недоверие к математическим практикам вообще, но вызвало создание целой нумерационной системы, основанной на порядковости простых чисел и разложении всех других чисел на простые множители. Эта практика до сих пор используется Ландом в его блогах вместе с другой, куда более старой — каббалой. Его каббалистические упражнения используют главным образом гематрию — высчитывание числового значения букв в слове или фразе для анализа скрытого смысла этого слова или фразы. Этот прием подрывает привычные механизмы обозначения и служит двум целям Ланда: оккультно-хайповерческой и саботирующей. Может показаться смешным, что из всех своих идей Ланд крепче всего ухватился за гематрию и придуманные им числительные, но это вполне закономерно. Уже после своего правого крена Ланд много писал на различных блог-платформах о том, что главная задача философии заключается в исследовании неизвестного и расширении границ мышления, а поскольку ограничения у мышления бывают, исследование времени и его границ также подпадают под эту задачу. Альтернативные формы счисления, таким образом, могут приоткрыть дверь альтернативным формам кодировки времени, которые, возможно, изменят наше к нему отношение.
В целом новые системы счисления и кодировки — не случайный компонент хайповерия, но неотъемлемая его часть, необходимая, чтобы превратить просто истории в истории с экспериментальным теоретическим бэкграундом и позволить вывести из них практики. «Хайповерческие» носители и методы использовались, чтобы направить мысль и воображение туда, куда они «сами» бы не направились, особенно в рамках коллективного творчества. Если использовать выражения, более близкие к тем, которыми пользовалась сама ГИКК, носители вселялись в них. Ланд в то время открыто говорил, что одержим самыми разными сущностями и что он делает то, что они ему велят. В этом, по сути, и была цель всей этой экспериментальной практики: сделать так, чтобы тобой смеялось и печалилось множество, принять его методы и посмотреть, как далеко это может завести
Ужас
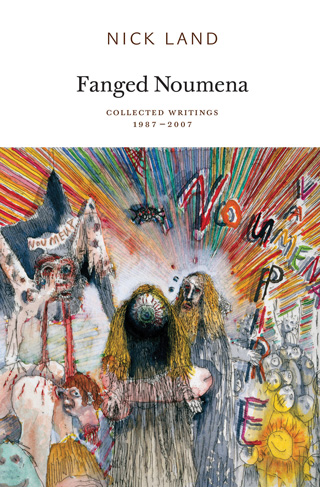 Рассмотрев предысторию, содержание и те методы, которыми Ланд и его приспешники заходили столь далеко, сколь только могли, остается остановиться на последнем околометафизическом и околоэстетическом элементе его трудов — ужасе. Он всегда сопровождает убийства «я», потому что ни одно животное, даже больное, не хочет умирать. Приверженность Ланда к ужасу выросла из изначальных практик ГИКК, которые, между прочим, использовали самоунижение и дегуманизацию как средство для преодоления «я». История о перформансе «Meltdown» на первой конференции VF, в ходе которого Ланд зачитывал свой экспериментальный текст под музыку, лежа на полу и «становясь-змеей», под неловкий смех некоторых присутствующих, служит примером этого метода. Собственно, избыток и унижение и были главным эстетическим маневром для Ланда в его относительно ранних текстах. Пассажи от опьяненного и страдающего первого лица в «Жажде», призывы к становлению оборотнем и кишащей массой крыс в «Ноуменонах» и сравнение гения с сифилитиком, так как оба оказываются изнасилованными внешними силами, будь то патоген меметический или буквальный, входят в число таких маневров. К гениям Ланд вполне вероятно относил и себя, ведь чего только не сделаешь под воздействием некоторых сущностей, подгоняющих преодолеть ограничения человеческого разума. Этот ингуманизм выступил прототипом ингуманизма Негарестани, делающего упор на неопределенность и пластичность человека (его нечеловечность). Неясно, считает ли Ланд до сих пор, что именно наше бессознательное носит нечеловеческий «машинный» характер, и что этот машинный потенциал следует освободить. Возможно, он полностью переметнулся от демонов и вирусов на сторону техносингулярности и считает, как настоящий киберНицше, что человечество — всего лишь мост, протянутый к всесильному искусственному интеллекту, способному преодолеть ограничения наших тупых обезьяньих мозгов.
Рассмотрев предысторию, содержание и те методы, которыми Ланд и его приспешники заходили столь далеко, сколь только могли, остается остановиться на последнем околометафизическом и околоэстетическом элементе его трудов — ужасе. Он всегда сопровождает убийства «я», потому что ни одно животное, даже больное, не хочет умирать. Приверженность Ланда к ужасу выросла из изначальных практик ГИКК, которые, между прочим, использовали самоунижение и дегуманизацию как средство для преодоления «я». История о перформансе «Meltdown» на первой конференции VF, в ходе которого Ланд зачитывал свой экспериментальный текст под музыку, лежа на полу и «становясь-змеей», под неловкий смех некоторых присутствующих, служит примером этого метода. Собственно, избыток и унижение и были главным эстетическим маневром для Ланда в его относительно ранних текстах. Пассажи от опьяненного и страдающего первого лица в «Жажде», призывы к становлению оборотнем и кишащей массой крыс в «Ноуменонах» и сравнение гения с сифилитиком, так как оба оказываются изнасилованными внешними силами, будь то патоген меметический или буквальный, входят в число таких маневров. К гениям Ланд вполне вероятно относил и себя, ведь чего только не сделаешь под воздействием некоторых сущностей, подгоняющих преодолеть ограничения человеческого разума. Этот ингуманизм выступил прототипом ингуманизма Негарестани, делающего упор на неопределенность и пластичность человека (его нечеловечность). Неясно, считает ли Ланд до сих пор, что именно наше бессознательное носит нечеловеческий «машинный» характер, и что этот машинный потенциал следует освободить. Возможно, он полностью переметнулся от демонов и вирусов на сторону техносингулярности и считает, как настоящий киберНицше, что человечество — всего лишь мост, протянутый к всесильному искусственному интеллекту, способному преодолеть ограничения наших тупых обезьяньих мозгов.
Картину только усложняет неореакция и правая идеология так называемого «Темного просвещения», сама, возможно, разработанная Ландом ради насаждения ужаса. Писать о неореакции и правом повороте Ланда следует не мне и не здесь, но невозможно не заметить: в самом сердце «Темного просвещения» лежит социал-дарвинизм, которому Ланд в одном из своих постов на ныне деактивированном блоге Outside In находит жутковатое выражение: «все стоящее было выстроено в аду». Ад здесь — цикл естественного отбора, вместе со страданием и смертью, которые он несет неприспособленным к своей среде живым существам или дезадаптивным характеристикам. Ландовская неореакция встает в позу и говорит: все хорошее в нас было вырвано безумной и безжалостной природой с помощью слепого случая при смене поколений живых существ. Все, что имеет ценность, включая интеллект, социальность и чувствительность к «прекрасному», было вынесено из неописуемых страданий на протяжении миллионов лет. В этой попытке ужаснуть заключается, возможно, главный посыл ландианской неореакции, который Ланд называет «хорроризмом»: тактику вызывания парализующего ужаса в своих политических оппонентах (и любом, кто попадется под тентакль).
У турбины, в которую мы залезли для нашего небольшого посмертного исследования, нет конца, и, если ползти по ней дальше, отбрасывая в сторону разломанные лопасти и куски мяса, в какой-то момент мы окажемся в беспросветной тьме и не сможем даже различить направление, в котором нам следует двигаться, чтобы выбраться. Ясно одно: Ланд все еще работает в рамках метода хайповерия, хайпуя в этот раз на ужасе. В одном из своих постов на Outside In, например, он сопоставляет египетского бога тьмы Кека, изображаемого с лягушачьей головой, с лягушонком Пепе, что впоследствии стало мемом про культ Кеке. Вряд ли Ланд первым заметил параллель, но он все же подхватил ее одним из первых, подставив под нее миф в буквальном смысле слова, — это идеальный пример работы хайповерия. Выходит, что в каком-то смысле даже с правым креном в его работах мало что поменялось. Совмещая императиву философии исследовать неизвестное c ужасом, Ланд, как уже было сказано, обращается к попытке помыслить границу времени и по возможности выйти за ее пределы, используя максимально абстрактное понятие неизвестного и неопределенного и сталкивая мысль с этим понятием. Во вполне хайповерческом ключе на выходе мы имеем весьма неплохие рассказы в жанре хоррор, которые Ланд публикует в своих блогах и выпускает как электронные издания. Ужас первым сталкивается с тем, что надлежит исследовать философии. Ланд показывает, что же останется от последней, если она посмеет за ним пойти.