За что мы любим Михаила Гаспарова
Интервью с филологом Николаем Гринцером
— Давайте начнем с самого простого и одновременно самого сложного вопроса: кем был Михаил Леонович Гаспаров и почему новость о выходе его собрания сочинений вызвала у многих такой ажиотаж?
— Вопрос действительно сложный. Гаспаров — фигура знаковая и индивидуально, и, я бы сказал, коллективно. Он был представителем великого поколения, которое ознаменовало поразительную роль гуманитарного знания во второй половине ХХ века. Михаил Леонович относился к младшим представителям этого поколения, в числе старших были Елеазар Моисеевич Мелетинский, Владимир Николаевич Топоров, Вячеслав Всеволодович Иванов, мой отец. Это настоящие «титаны мысли», создавшие, без иронии, русское гуманитарное Возрождение.
Конец прошлого века — совершенно уникальный период, когда светочи гуманитарной науки были одновременно и «властителями дум» более широкого круга людей. Начиная с 1960-х годов люди, занимавшиеся гуманитаристикой, стали оказывать влияние на общественный климат в целом. Это был период, когда лекции Сергея Сергеевича Аверинцева собирали огромные залы и когда книги того же Мелетинского покупали люди, не имевшие никакого понятия о поэтике мифа или сравнительной фольклористике. Отчасти это объяснялось тем, что занятие гуманитарными науками воспринималось как некоторая форма глубокой фронды.
Надо сказать, с одной стороны, Михаил Леонович всегда стоял немного в стороне от подобных тенденций — во многом демонстративно, поскольку он вообще, на мой взгляд, был человеком, сознательно создававшим свой образ. Показательна его дружба и, я бы даже сказал, глубокая духовная связь с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым. Аверинцев был в известном смысле символом общественной значимости гуманитарной науки. Неслучайно именно его упомянул Вознесенский, когда писал, что «есть в Рихтере и Аверинцеве земских врачей черты», и неслучайно он потом стал делегатом Съезда народных депутатов СССР. Михаил Леонович, наоборот, был воплощением идей «настоящей науки», так сказать, ученым, занимающимся своим делом, не вмешивающимся в политику. Он долго культивировал образ «человека в футляре», которым на самом деле совершенно не являлся. На всех заседаниях Гаспаров сидел в стороне и, условно говоря, считал размеры стихов. Так и возник его типичный образ — сидящего с ручкой и всегда пишущего что-то на листочках или в книжках.
С другой стороны, когда советская эпоха кончилась и оказалось, что общественный пафос филологии и истории сошел на нет, удивительным образом именно Михаил Леонович понес гуманитарное знание в массы. Феномен Гаспарова заключается как раз в том, что этот человек, всегда державшийся особняком, вдруг стал автором бестселлеров: «Записей и выписок» и «Занимательной Греции». «Записи и выписки» стали одновременно фактом науки — они же все об истории гуманитаристики и истории самого себя — и фактом литературы. Что касается «Занимательной Греции», то я неоднократно писал (в том числе в предисловии к первому тому нового собрания сочинений) и говорил, вызывая некоторое недоумение своих коллег по цеху, что это просто лучшая из всех книг, написанных Гаспаровым об античности — а об античности он написал очень много. Она открыла Грецию и вообще античную культуру огромному количеству людей, причем не только детям, которым она вроде как адресована, — на самом деле она рассчитана на куда большую аудиторию.
Поэтому фигура Гаспарова уникальна. В глазах интеллигенции он был олицетворением «чистой науки», но никому не удалось с большей убедительностью продемонстрировать, что эта наука может и должна быть интересной.
— Расскажите о собрании сочинений, над которым вы работали. По какому принципу отбирались тексты? Если я правильно понимаю, было решено отказаться от хронологического подхода в пользу тематического.
 — Мы вместе с Михаилом Леонидовичем Андреевым, коллегой Михаила Леоновича по Институту высших гуманитарных исследований в РГГУ, замечательным специалистом по культуре Возрождения и Средних веков, подготовили первые два тома. Первый целиком посвящен Греции, а второй римской античности и Средневековью. Он будет называться «Рим и после Рима». Объединить эти темы под одной обложкой мы решили потому, что культура средневекового Запада, о которой писал Гаспаров, — это, конечно, прямое продолжение культуры Римской империи. Подготовка издания была завершена, можно сказать, в рекордные сроки. Концепция сформировалась летом — и вот уже выходит первая книга.
— Мы вместе с Михаилом Леонидовичем Андреевым, коллегой Михаила Леоновича по Институту высших гуманитарных исследований в РГГУ, замечательным специалистом по культуре Возрождения и Средних веков, подготовили первые два тома. Первый целиком посвящен Греции, а второй римской античности и Средневековью. Он будет называться «Рим и после Рима». Объединить эти темы под одной обложкой мы решили потому, что культура средневекового Запада, о которой писал Гаспаров, — это, конечно, прямое продолжение культуры Римской империи. Подготовка издания была завершена, можно сказать, в рекордные сроки. Концепция сформировалась летом — и вот уже выходит первая книга.
В тематическом подходе ничего нового нет. Это ведь не полное собрание сочинений, но только избранные работы (хотя подборка очень представительная). Странно было бы располагать их хронологически, хотя — и мы с Михаилом Леонидовичем пишем об этом в нашем предисловии — хронология здесь тоже играет свою роль. Михаил Леонович сменил за свою жизнь несколько сфер интересов. Начинал он как античник, специалист по Греции, Риму — и Средним векам как их логичному продолжению. Постепенно он все больше уходил в стиховедение и историю русского и западного стиха. Наконец, у него довольного много работ, касающихся общей методологии науки, которые по большей части относятся к последнему этапу его творчества. Так что хронологический и тематический принципы здесь пересекаются. В дальнейшем предполагаются тома, посвященные стиховедению, истории русской поэзии, общим представлениям Гаспарова о науке и его переводческой работе.
Переводы тоже очень важная сторона творчества Михаила Леоновича, которая связывает Гаспарова-гуманитария с Гаспаровым — общественным явлением. Он перевел и издал огромное количество книг, и это тоже одна из форм популяризации науки в хорошем смысле. В этом, к слову, состоит отличительная особенность как всего собрания, так и наших двух томов: мы старались показать читателю Гаспарова в разных ипостасях. Соединение академических и культуртрегерских текстов — специальная задача этого издания.
— А было ли для Гаспарова в принципе важным противопоставление научного и популярного? Ведь его строго научные статьи тоже написаны очень ясным и понятным языком.
— Я думаю, и да, и нет. Мне посчастливилось довольно много общаться с самим Михаилом Леоновичем — он очень дружил с моей мамой, они вместе работали (в частности, над собранием сочинений Пастернака), и я могу с некоторой уверенностью сказать, что сам Гаспаров главную свою задачу относил не к академической области. Он неоднократно, в том числе и при мне, говорил: «Я не филолог-классик, я переводчик». Надо, правда, понимать: чтобы перевести любой греческий или латинский текст, надо быть очень хорошим филологом-классиком. Перевод не в буквальном смысле, а как понимание текста — это и есть главная цель нашей дисциплины. Мы всегда переводим, даже когда просто пишем статьи, переводим с мертвого языка на живой.
В то же время Михаил Леонович был человеком, замечательно чувствовавшим слово и жанр, в котором он выступает. С этой точки зрения противопоставление академического и неакадемического для него было актуальным, потому что разные тексты пишутся по-разному.
Мне кажется, что жанр, в котором он достиг совершенства, это как раз нечто соединяющее и то, и другое — его предисловия и послесловия к переводам. Именно в таких сопроводительных статьях он нашел идеальное сочетание академичности и доступности. С одной стороны, их потрясающе приятно и легко читать. А с другой стороны, если ты имеешь хоть какое-то представление о предмете, то видишь, что в них обсуждаются достаточно серьезные, действительно научные проблемы, формулируются идеи, нетривиальные в том числе и с научной точки зрения. Уже названия этих предисловий — например, «Вергилий — поэт будущего» — говорят (по крайней мере, в нашей культуре) об их обращенности к широкой аудитории. Но это всегда чрезвычайно тонкое проникновение в суть разбираемого автора.
Даже в его полностью научных текстах, особенно ранних, есть предчувствие того типа письма, о котором я говорю. Например, в его статьях не очень много сносок — ему было не так важно перечислить всех, кто что-то сказал по тому или иному поводу, хотя это — показатель научности в нашей консервативной области. Обычно требуется назвать всех великих немцев, писавших о вашем предмете в XIX веке, потом всех великих немцев (и не только), писавших в ХХ веке, и так далее, поэтому читать наши статьи, как правило, довольно тяжело. А он совершенно не стремился дать перспективу всех исследований по теме, но в самых узкоспециализированных работах Гаспарова встречаются чеканные формулировки, предвосхищающие его более поздний стиль. Ему было важно понять природу явления в целом, а не углубиться в детали.
— Если мы говорим о синтезе двух этих составляющих, стоит вернуться к «Занимательной Греции». Почему вы решили отвести ей центральное место в первом томе?
— Она открывает первый том. Сначала были дискуссии, публиковать ли ее целиком или в эксцерптах, но очень быстро решено было печатать весь текст. Попадая в окружение остальных работ про античность, она приобретает новый смысл, и ее можно читать немного по-другому. То, что «Занимательная Греция» стоит в начале собрания сочинений, абсолютно правильно, потому что эта книжка — в каком-то смысле квинтэссенция гаспаровского подхода к античности.
— А как вы думаете, почему ее так долго, почти двадцать лет, не печатали в советское время?
— Я не знаю всех обстоятельств, но могу кое-что предположить. Понимаете, эта книга во всех смыслах выбивается из канона. Во-первых, у нас почти не было таких книжек. До «Занимательной Греции» главным бестселлером оставались мифы в изложении Куна — и половина, если не больше, людей, пришедших тогда заниматься античностью, в детстве заучивала по Куну длиннейшие родословные героев. Но обратите внимание на то, что «Мифы» Куна довольно нудные. Известно: то, что кажется нудным взрослому, ребенку таким не кажется, потому что дети обладают реликтами так называемого мифологического мышления и бесконечные перечисления их совершенно не раздражают. Неправда, что детей нужно постоянно развлекать, — нет, как раз нудное, длинное повествование с множеством имен их завораживает, тем более что они, в отличие от взрослых, эти имена хорошо запоминают.
Гаспаровская книга совсем другая — это книга о культуре и истории в целом, чрезвычайно увлекательная история в анекдотах. Я подозреваю, кстати, что эта форма связана с жанрами, существовавшими в самой античности. Михаил Леонович переводил и готовил к изданию знаменитую книгу Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» — тоже историю греческой философии в анекдотах. Многие отмечают, что в переводе Михаилу Леоновичу лучше всего удались именно анекдоты, а к той части, в которой излагаются собственно учения, у специалистов были серьезные претензии — все-таки там существует своя терминология и надо принимать во внимание разные трактовки философских систем.
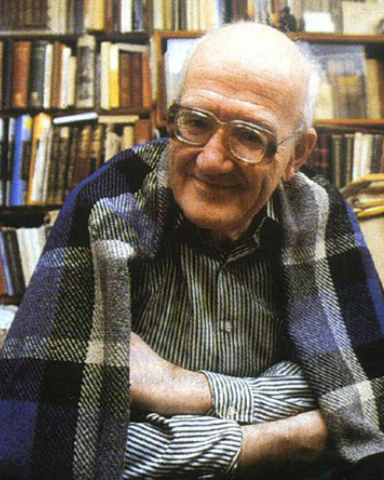 Михаил Леонович был человеком, все объяснявшим концепциями, некоторыми готовыми образами. Как они относятся к реальности — отдельный вопрос, но его общая идея античности заключалась в том, что Рим — это для него просто и понятно, а Греция, как он всегда самоуничижительно говорил, сложная и непонятная. Поэтому он хотел ее понять и объяснить, а объяснить сложное можно только через простое. Отсюда нарочитая простота «Занимательной Греции» и даже, я бы сказал, ее приземленность — великие персонажи древнегреческой истории и мифологии предстают у Гаспарова в самом обыденном свете. Это все во-первых.
Михаил Леонович был человеком, все объяснявшим концепциями, некоторыми готовыми образами. Как они относятся к реальности — отдельный вопрос, но его общая идея античности заключалась в том, что Рим — это для него просто и понятно, а Греция, как он всегда самоуничижительно говорил, сложная и непонятная. Поэтому он хотел ее понять и объяснить, а объяснить сложное можно только через простое. Отсюда нарочитая простота «Занимательной Греции» и даже, я бы сказал, ее приземленность — великие персонажи древнегреческой истории и мифологии предстают у Гаспарова в самом обыденном свете. Это все во-первых.
А во-вторых, вокруг античности же сложился ореол чего-то очень высокого. Специалисты по классической древности (и у нас, и за рубежом) часто подвержены идее, что они занимаются самым главным в мировой культуре, а после античности ничего значительного уже не было. К счастью, молодые ученые, да уже и мы с коллегами, этому предрассудку подвержены куда меньше, но вообще надо помнить, что это очень вредная идея. Прежде всего, это просто неправда: каждая культура хороша и интересна сама по себе. Да, античность — источник всей дальнейшей европейской цивилизации, но это не значит, что потом был только упадок.
Кроме того, такой статус был связан и с уже упоминавшейся фрондой в гуманитарных науках. Если ты занимался античностью, то не занимался современностью. Современность плоха, значит, древность велика. Так вот, «Занимательная Греция» этот ореол разрушает. Многих моих знакомых от этой книги буквально передергивает. Слишком просто написано, слишком по-человечески и часто смешно — а это ведь про великую греческую культуру. Ее могли воспринять то ли как шутку, то ли как издевательство — ну уж больно жанр странный. Про античность надо писать «высоким штилем», а здесь и «высокого штиля» нет, и, главное, нет такого отношения. Есть естественная, забавная, иногда дурацкая история.
Поэтому я и говорю, что эта книга — не только и не столько для детей: она воспитывает естественное отношение к Древней Греции как ко всякой другой культуре. В жестких рамках разных систем и иерархий, которые существовали в советской культуре, в том числе в иерархии духовно-гуманитарной, эта книга не могла быть оценена по достоинству. Когда в 1990-е вместе с СССР рухнули все иерархии, «Занимательная Греция» совпала с эпохой.
Понимаете, сейчас нам ясно, что это абсолютный хит — не только по факту, но и исходя из системы ценностей новой культуры, возникшей в конце ХХ — начале ХХI века. На Западе сейчас выходит огромное количество книг, написанных примерно в такой же манере, но гораздо хуже, надо заметить, — и они становятся бестселлерами. Хороший пример — Мэри Бирд, известный историк, она пишет научно-популярные книги об античности. Как правило, новым книгам далеко до живости гаспаровского языка, потому что авторы обычно ищут баланс между академичностью и простотой. Появление такого рода сочинений сегодня объясняется необходимостью постоянно доказывать собственную актуальность, а Гаспаров сделал то же самое гораздо раньше и, с моей точки зрения, гораздо лучше.
«Занимательная Греция» — закономерный итог всего того, что Гаспаров делал на протяжении «античной части» своей карьеры. Он постоянно шел к понятности: это касается и переводов, и предисловий, и даже научных статей. В научных текстах это попытка внести ясность в академические структуры, и отсюда типично гаспаровское стремление к классификаторству, его любовь (иногда даже чрезмерная) к пунктам, спискам, схемам. А «Занимательная Греция» — это понимание на совсем простом, человеческом уровне. Гаспаров всей своей филологической работой пытался сделать античную культуру понятной, и даже больше того — нормальной.
— Бросается в глаза, что самый большой тематический блок в первом томе составляют тексты, посвященные античной басне. Почему Гаспаров неоднократно возвращался к этому «немагистральному» жанру античной литературы?
— Здесь тоже можно только гадать, так как, даже когда Михаил Леонович что-то объясняет, скажем, в «Записях и выписках», ему не всегда следует верить. Но есть несколько обстоятельств, на которые имеет смысл обратить внимание.
Во-первых, иногда Гаспарову было интересно то, о чем до него писали не так много. Ну, это кажется понятным: если темой раньше не занимались, тебе проще утвердить свой авторитет, но Михаил Леонович как раз мало интересовался вопросами первенства. Надо сказать, что он никогда не боялся брать на себя риск и писать об очень известных текстах. Это же страшно ответственно — заниматься Горацием, греческой трагедией или переводить заново «Поэтику» Аристотеля. За ними ведь стоит гигантский пласт истории, литературы, науки, но Гаспаров был очень смелым человеком и ученым, он нарушал конвенции и каноны.
Во-вторых, басня — это (опять-таки в хорошем смысле) форма опрощения античной культуры. Что может быть проще басни? Это жанр, формально не претендующий ни на какие глубины. Для человека, написавшего «Занимательную Грецию», исследования басни как раз довольно естественны. Некоторые части «Греции» тоже напоминают басни — прозаические истории, иногда с небольшой моралью, иногда без.
Ну и в-третьих, басня представляла собой прекрасный материал для второго из двух его главных методов. Об одном я уже рассказывал — это демонстрация простоты, или системы, в сложном. Предельный пример — Пиндар. В нем и по-гречески, если честно, ни черта не поймешь, перевести Пиндара на русский — уже великий труд, а разобраться самому и объяснить остальным, как устроены его стихи — труд еще больший. И если открыть статьи Гаспарова о греческой лирике, в них постоянно встречаются перечни разных типов композиции, схемы — короче говоря, тот или иной вид упрощения предельно сложного материала. А басня — обратный случай: это жанр, в котором Гаспаров обнаруживает цветущую сложность. За ее кажущейся простотой стоят самые разные жанровые варианты, разные отсылки; собственно, главная гаспаровская статья на эту тему и называется «Античная басня — жанр-перекресток». Это как бы оборотная сторона его взгляда на античность: простота в сложном и сложность в очень простом.
Это же, кстати, относится и к его противопоставлению Греции и Рима. В Греции он всегда стремился максимально прояснить все темные места. Характерно, что в переводе «Поэтики» Аристотеля, крайне трудного и во всех смыслах непонятного сочинения, Михаил Леонович очень многое добавлял в скобках, от себя, просто чтобы текст можно было читать. А в римской культуре, как мне кажется, он раскрывал сложность, хотя сам Рим называл близким и понятным. В очерке о Катулле, тоже вроде бы вполне известном поэте, Гаспаров демонстрирует его многогранность, говоря о «нескольких» Катуллах: любовном лирике, ученом авторе гимнов, язвительном насмешнике.
Кроме того, Гаспаров, снова опережая свое время, активно интересовался вопросами рецепции древних текстов. У расцвета этого направления в наши дни есть вполне приземленные причины: надо постоянно доказывать, что мы не зря хлеб едим, смотрите, откуда все выросло. Для Михаила Леоновича же античность была не вещью в себе, а органичной составляющей европейской культуры. И басня тут пришлась как нельзя кстати, так как это один из немногих жанров, органично перешедших из античной литературы в новоевропейскую.
— Помимо Древней Греции и Рима Гаспаров занимался историей русской литературы, стиховедением, лингвистикой стиха и много чем еще. Насколько он при этом оставался античником? Сказались ли классические штудии на исследованиях в других областях?
 — Михаил Леонович сам об этом писал, могу отослать к соответствующим фрагментам «Записей и выписок», но это как раз тот случай, когда ему не стоит верить. Гаспаров пишет, что античность была для него некой щелью, в которой он прятался от мира, а потом он нашел себе другую щель — стиховедение и все прочее. Он изображает дело так, будто и сам не до конца понимал, как оказался на античном отделении. Я с этим образом не совсем согласен. Мне кажется, что Гаспаров-античник сохранялся на протяжении всей его жизни.
— Михаил Леонович сам об этом писал, могу отослать к соответствующим фрагментам «Записей и выписок», но это как раз тот случай, когда ему не стоит верить. Гаспаров пишет, что античность была для него некой щелью, в которой он прятался от мира, а потом он нашел себе другую щель — стиховедение и все прочее. Он изображает дело так, будто и сам не до конца понимал, как оказался на античном отделении. Я с этим образом не совсем согласен. Мне кажется, что Гаспаров-античник сохранялся на протяжении всей его жизни.
Ну, само собой, он прекрасно знал языки и замечательно владел материалом. Я отдельно благодарен ему за то, что, когда создавали новую кафедру классической филологии в РГГУ, первые годы ее возглавлял именно Михаил Леонович, поскольку его авторитет был очень важен и нужен. Он тогда часто говорил мне: «Я, конечно, не классик, но, если вам нужно, я пока прикрою, а дальше уже будете сами». В действительности при обсуждениях конкретных образовательных вопросов он отлично ориентировался в предмете и сохранял образцовую трезвость ума. Но важно даже не это, а то, что Гаспаров сохранил все те базовые установки, которыми руководствовался при работе с античными текстами.
Первое: сохранилась сама главная идея — понять автора и произведение. Она проявлялась во всех его последующих занятиях, от стиховедения до методологии науки. Фундаментальной задачей Гаспарова всегда было сделать объект изучения понятным для всех; самый радикальный случай — это, конечно, его знаменитые переводы с русского на русский. Я в этом вижу ту же самую интенцию, что и в переводах с древнегреческого или латыни: транслировать с языка мертвой культуры на язык живой. Русский Лермонтова — язык не мертвый, но искусственный, специально сконструированный язык поэзии. Античность дала Гаспарову важный опыт понимания, что такое перевод. Ведь когда молодой человек, например, берется переводить с французского на русский, есть иллюзия, что это просто перевод с одного нормального живого языка на другой. Работа над переводами с античных языков эту иллюзию неизбежно разрушает. Сами идеи Гаспарова о двух видах перевода, остраняющем и приближающем чужую культуру, вырастают именно отсюда.
Второе: то самое желание все разложить по полочкам. Можно, конечно, считать его общим свойством гаспаровского характера или ума, но свойства характера и ума все же во многом формируются образованием и занятиями человека, они не изначально в нас заложены. Все это есть в его антиковедческих работах. Это, между прочим, было свойственно и самой античной культуре, античность была культурой системы, и то, что Гаспаров впоследствии искал систему уже в своих разборах стихов, абсолютно логично. Систематичность была заложена в античном образовании и гуманитарных науках, которым — прежде всего, риторике и поэтике — Гаспаров тоже отдал много сил. Античная риторика, безусловно, оказала самое серьезное влияние и на то, как он исследовал некую тему, и на то, как он писал. В особом стиле Гаспарова легко разглядеть приемы, которые он позаимствовал у античных авторов. Например, его умение писать для разных аудиторий: одно из ключевых положений античной риторики состояло в том, что любой предмет можно изложить по-разному.
— Завершая тему Гаспарова-переводчика: чем он руководствовался в работе с древними текстами? И как специалисты сегодня оценивают точность его переводов?
— Гаспаров переводил в какой-то степени для самого себя. Это, к слову, совершенно правильно: чтобы объяснить что-то другим, надо сначала хорошо объяснить себе. Его переводы почти всегда могут вызывать споры
Приведу пример. «Послание к Пизонам» Горация Михаил Леонович перевел дважды, прозой и в стихах. Прозаический перевод есть в одной из его статей, где он доказывал, что этот текст связан с традицией учебников риторики. Перевод буквальный, но очень здорово, что он вообще его выполнил: у нас, к сожалению, в отличие от Запада, нет традиции дословных прозаических переводов поэтических текстов. Про огромное количество античных произведений можно сказать, что русский читатель просто не знает, что там на самом деле написано, особенно когда это переводили великие поэты типа Вячеслава Иванова или Иннокентия Анненского. А гаспаровский поэтический перевод мне нравится куда меньше, потому что, по-моему, он в нескольких местах отходит от исходного смысла.
Перевод «Поэтики» прекрасен тем, что Гаспаров очень стремился сделать Аристотеля максимально понятным для всех и каждого. Это перевод, выполненный в русле рационального истолкования «Поэтики», традиции тогда очень современной и новой. Он как бы дообъясняет невысказанное. Это, на мой вкус, тоже не всегда правильно.
В его Диогене Лаэртском видно, что он с любовью переводил фрагменты, ему интересные и близкие, а вот философской частью, по мнению многих критиков, просто невозможно пользоваться. С точки зрения истории философии там действительно большие проблемы, но надо учитывать особенности жанра, которые Гаспаров чувствовал очень тонко. Диоген Лаэртский, прежде всего, конечно, про анекдоты, а не про философские доктрины. Это популярное изложение, поэтому хорошо перевести анекдоты, может быть, самое важное, а в философской терминологии иногда путается и сам Диоген.
Мне представляется крайне удачным перевод Пиндара. Это уникальный опыт, Гаспаров нашел единственно правильное решение с точки зрения метрики, притом что пиндаровские метрические схемы — это что-то запредельное по сложности. В каждом конкретном случае можно предъявлять претензии к точности, но из его перевода складывается замечательный образ поэзии Пиндара. Благодаря Гаспарову Пиндар существует на русском, чего нельзя сказать о некоторых европейских языках, где переводы очень точные, но поэзии за ними нет.
Еще я очень люблю его экспериментальные переводы греческой трагедии, в первую очередь из Еврипида, «Электру» и «Ореста». В них замечательно то, что они очень человеческие. Греческие трагедии на русском в силу разных причин, о которых я уже говорил, получаются чересчур возвышенными и по большей части не читабельными. Гаспарову удалось перевести их естественно и в то же время передать заложенную в них торжественность, а иногда и ритм греческого стиха.
— Обращаетесь ли вы к идеям Гаспарова в своей научной работе? Можете ли вы назвать его своим учителем?
 — Нет, не могу. У Михаила Леоновича вообще было очень мало учеников. Учеников-античников просто нет, скорее их можно найти среди стиховедов. Собственно, в пору моего студенчества мы никогда с ним не сталкивались в университете, он не был persona grata на кафедре классической филологии МГУ, где я учился.
— Нет, не могу. У Михаила Леоновича вообще было очень мало учеников. Учеников-античников просто нет, скорее их можно найти среди стиховедов. Собственно, в пору моего студенчества мы никогда с ним не сталкивались в университете, он не был persona grata на кафедре классической филологии МГУ, где я учился.
Как ученый я занимаюсь греческой трагедией и эпосом и не могу сказать, что много пользуюсь идеями Михаила Леоновича. Если говорить о его строго академической деятельности, то он оказал сравнительно малое влияние на развитие нашей дисциплины. Одной из его задач с самого начала, как мне стало ясно при перечитывании его ранних статей, было привнести в отечественную науку достижения западной: он ее хорошо знал, готовил рефераты для «Вестника древней истории».
Очень интересной для меня остается статья «Сюжетосложение греческой трагедии». Хотя я в ней со многим не согласен, нельзя не признать, что это статья концептуальная, сыгравшая свою роль в научных дискуссиях. Гаспаровский перевод Аристотеля был отправной точкой всех моих рассуждений о «Поэтике», пусть я и спорил с ним по поводу многих решений: «Поэтика» была темой моей докторской диссертации, а Михаил Леонович выступил оппонентом на защите (к слову, как и на защите моей кандидатской). Но все-таки основное воздействие на меня он оказал не как ученый в узком смысле слова.
Зато Гаспаров очень сильно помогает мне в преподавательской деятельности. Невозможно прочитать курс по истории античной литературы, не имея четкой концепции ее развития в целом и в отдельных частях. И в этом смысле гаспаровские статьи незаменимы, не говоря уже о том, что студентам младших курсов ничего лучше про римскую литературу, чем его предисловия, порекомендовать нельзя. Признаюсь: каждый раз перед тем как начать римскую часть курса, я перечитываю статьи Михаила Леоновича. Я их, конечно, хорошо знаю, но всякий раз нахожу что-то новое.
Гаспаров не так много преподавал: ему было сложно говорить, он заикался, но в РГГУ я слушал несколько его лекций — он читал заранее написанный текст, и это был высокий класс.
— Есть довольно деликатный момент, связанный с авторскими правами и вообще текстологией гаспаровского корпуса. Ходят слухи, что «Капитолийскую волчицу» и книгу о древнегреческой мифологии за Гаспарова уже после его смерти дописали родственники. Войдут ли эти тексты в собрание сочинений и как вообще проходила работа с рукописями?
— Краткий ответ на ваш вопрос состоит в следующем: ни то, ни другое сочинение мы в собрание включать не стали. Содержание томов было полностью согласовано с вдовой Михаила Леоновича, Алевтиной Михайловной Зотовой, она против нашего решения возражать не стала. В конце второго тома будет размещена библиография трудов Гаспарова, не включенных в собрание, — там вы тоже ни «Капитолийской волчицы», ни «Занимательной мифологии» не найдете.
При подготовке «наших» двух томов мы столкнулись с несколькими интересными текстологическими проблемами. В полной академической библиографии работ Гаспарова присутствовала незнакомая мне статья о поэме «Война мышей и лягушек». Один из коллег указал мне на нее, и я предложил ее включить, потому что пародийный эпос — один из тех жанров, которые могли быть интересны Михаилу Леоновичу. Когда мы посмотрели сам текст, он вызвал у меня большие сомнения — по-своему он весьма интересен, был издан, кажется, в «Эксмо» в качестве предисловия к переводу «Войны», причем в самой книжке автор предисловия не указан. Процентов на семьдесят он состоит из переводов Гаспарова, в частности античных басен (как некоторой традиции, к которой принадлежит поэма), а дальше к ней пришпандорен текст, написанный очевидно не Михаилом Леоновичем и вообще напоминающий Википедию. Надеюсь, в ближайшее время в библиографии будет помечено, что гаспаровского в этой статье — только переводы.
Да, и вот что еще обязательно надо сказать: за все плохое в издательском отношении в этих томах несем ответственность мы с Михаилом Леонидовичем, а все хорошее — великая заслуга нашего редактора, Евгении Андреевой. Это совсем молодая девушка, которая идеально соединила в себе все качества, требуемые для такого сложного проекта: она работает в «Вестнике древней истории», знает языки и обладает большим редакторским опытом. В какой-то момент она просто потрясла меня, заметив крохотное различие между двумя вариантами статьи о Пиндаре. Она сравнивала текст, опубликованный в «Литпамятниках», с более поздним, из прижизненных «Избранных трудов». Гаспаров там пишет: «Главное в человеке — порода», — и в одном издании потом в скобках стоит одно греческое слово, а в другом — другое, причем они оба написаны правильно, то есть, может быть, его поменял сам Михаил Леонович. В итоге мы вдвоем нашли решение и выбрали слово из одной оды Пиндара, аллюзия на которую, судя по всему, подразумевалась Гаспаровым. Согласитесь, с точки зрения редакторского мастерства найти такое разночтение — это высший пилотаж.
— И последний вопрос: зачем, в двух словах, сегодня читать Гаспарова? Что он может дать нынешнему читателю?
— Начнем с того, что это страшно интересно читать. Вообще любой вещью стоит заниматься, только если это интересно. Я стал античником не потому, что это якобы пик развития человечества, а потому что мне было интересно. Поэтому читателю Гаспарова не обязательно заниматься классической филологией, он может просто любить литературу или хотеть понять, откуда что берется.
У Бунина в «Темных аллеях» есть рассказ, в котором герой вспоминает свою первую юношескую любовь. Они с женой едут в поезде и, заканчивая разговор, он произносит: «Amata nobis quantum amabitur nulla» — «Любимая нами, как никакая другая не будет любима». Жена спрашивает, что он сейчас сказал, он отвечает: «Это по латыни, ты не поймешь». Это цитата из Катулла — можно сказать, первого поэта любви в европейской литературе. Вот чтобы не быть женой этого персонажа, а понимать, что написано у Бунина, надо читать Гаспарова. Если человека, увидевшего в сноске имя Катулла, заинтересовало, кто это такой, то ему для начала более чем достаточно прочитать гаспаровскую статью.
Ну и потом, Михаил Леонович — не только проводник в чужие культуры, но и часть нашей, современной русской культуры. Гаспаров, с одной стороны, воплощает долгую традицию гуманитарной науки, а с другой — все те изменения, которые происходили с нашим обществом во второй половине прошлого века. Он и традиция, и новация.