За что Кривоклят ненавидит картины, висящие в современных музеях
Интервью с польским писателем Яцеком Денелем
— Насколько я понимаю, прототипом главного героя вашего романа послужил реально существовавший «кислотный маньяк» Ханс-Иоахим Больман, который начиная с конца 1970-х облил кислотой несколько десятков шедевров мировой живописи. Расскажите, когда вы впервые услышали о нем и чем он вас заинтересовал?
— Я случайно наткнулся на статью о нем в Википедии, то ли в ходе какого-то специального поиска, то ли просто бесцельно блуждал в сети, поддавшись прокрастинации. Меня поразило, что это такая бернхардовская история: человек с мономанией, неудержимо стремящийся к осуществлению своего разрушительного проекта — уничтожению шедевров искусства с помощью кислоты. Я был дома один, работал над другим романом, «Матушка Макрина», но сразу бросился писать начало будущего «Кривоклята», не совсем еще понимая, что это будет именно роман, а не просто короткая новелла. Писать, используя стилистику Томаса Бернхарда, — это очень специфический опыт: как будто твой текст приобретает способность к самовоспроизводству, самовоспламенению. Измучившись, я закончил посреди ночи большой отрывок, почти одну десятую книги. Наутро я продолжил работать над предыдущим романом и вернулся к «Кривокляту» позже. К счастью, меня совершенно неожиданно пригласили в Кремс на месячную писательскую стажировку, так что я оказался в центре Австрии, время от времени посещал Вену, и тогда снова взялся за книгу, писал в бешеном темпе. В результате я закончил ее в течение месяца. Ни до, ни после я не работал так интенсивно.
— Почему именно Бернхард? Чем вас так привлекает этот автор?
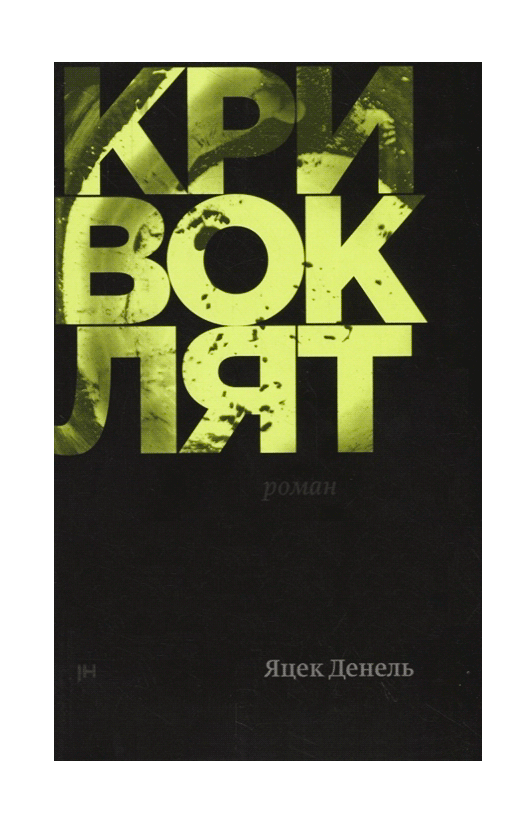 — Бернхард — один из авторов, которыми я глубоко восхищаюсь. И я вряд ли уникален, поскольку он очень уважаем во всем мире и особенно любим в Польше. Своей популярностью в моей стране он обязан, вероятно, двум основным причинам: во-первых, у Австрии и Польши очень много общего в плане недостатков, и это делает книги Бернхарда крайне актуальными для нынешних польских читателей, а во-вторых, он очень хорошо переведен на польский. Если вам нужен писатель, демонстрирующий отвращение к окружающему миру, согражданам, состоянию общества, а также глубоким человеческим страданиям, — Бернхард идеальная кандидатура. И еще важно то, что, как мне кажется, часто упускают из виду при обсуждении его книг и пьес в Польше: Бернхард дико смешной, у него отличное, недоброе чувство юмора.
— Бернхард — один из авторов, которыми я глубоко восхищаюсь. И я вряд ли уникален, поскольку он очень уважаем во всем мире и особенно любим в Польше. Своей популярностью в моей стране он обязан, вероятно, двум основным причинам: во-первых, у Австрии и Польши очень много общего в плане недостатков, и это делает книги Бернхарда крайне актуальными для нынешних польских читателей, а во-вторых, он очень хорошо переведен на польский. Если вам нужен писатель, демонстрирующий отвращение к окружающему миру, согражданам, состоянию общества, а также глубоким человеческим страданиям, — Бернхард идеальная кандидатура. И еще важно то, что, как мне кажется, часто упускают из виду при обсуждении его книг и пьес в Польше: Бернхард дико смешной, у него отличное, недоброе чувство юмора.
— Вернемся к Кривокляту и его прототипу. Почему вы придумали для вашего героя новое имя?
— Потому что Кривоклят — это не Больман. Они разные люди. В чем-то они, конечно, похожи, даже очень: скажем, они нападают на одни и те же произведения искусства, они оба были свидетелями гибели своих жен, упавших с большой высоты во время мытья окон. Но книга ведь не об этом. Мне хотелось написать о роли современного музейного дела и еще о восстании независимого ума против узколобого общества — конечно, о безнадежном восстании.
— Чем вы пользовались при работе над книгой? Многое ли узнали о реальном «кислотном маньяке»?
— Как я уже говорил, кое-что в биографиях Больмана и Кривоклята совпадает, но о Больмане не очень много известно. Я читал интервью с ним, нашел какую-то незначительную информацию о его жизни, читал книги и статьи о современном иконоборчестве, но больше всего я читал Бернхарда, чтобы понять его язык. Ну и провел собственное исследование в Вене: несколько раз посетил Художественно-исторический музей, выбирая работы, на которые Кривоклят, возможно, захочет напасть. Или, например, изучал ассортимент пирожных в музейном кафе, потому что Кривоклят долго говорит о десертах, которые там подают. Также я провел некоторое время в любимом кафе Бернхарда, Café Bräunerhof, и довольно много написал там.
— Кстати, а у слова «Кривоклят» есть какое-то значение? Может быть, по-польски это игра слов, которой мы не понимаем?
— Как-то раз во время посещения венских кладбищ меня поразило обилие чешских фамилий — мы с моим мужем шутили, что это выглядит так, как если бы австрийцы были чехами, говорящими по-немецки. Поэтому, решив писать роман в духе Бернхарда, как можно более австрийский, но также имея в виду и то, что эта моя Австрия в некотором роде и Польша, я решил дать главному герою чешскую фамилию. Křivoklát. Это реальное место, чешский город с прекрасным средневековым замком, что тоже сыграло свою роль, потому что психиатрическая больница, где лечится (а на самом деле отбывает тюремное заключение) мой герой, также является замком: Schloss Immendorf (я имею в виду замок, который был фактически уничтожен отступающими солдатами СС вместе с большой коллекцией картин Климта). Но и само название тоже очень важно: на польском языке оно звучит как krzywo kłaść. Кривоклят не плывет по течению, восхищаясь искусством, но не плывет он и против, уничтожая искусство в анархистском или нигилистическом угаре. Он задает неправильные, неудобные вопросы.
— А другие герои реальны? Скажем, убивший свою жену художник, с которым Кривоклят ведет бесконечный диалог?
— Нет, все они вымышлены. А Цейетмайер, чья фамилия взята из одного текста Бернхарда, наверное, придуман даже на более глубоком уровне, чем главный герой, — ведь есть вероятность, что его не существует, что на самом деле это Кривоклят убил свою жену, и теперь у него раздвоение личности, которое помогает ему пережить это событие. Но это лишь дополнительный поворот, замеченный некоторыми читателями, — думаю, он не столь важен для восприятия книги. Я и сам не понимаю, какую интерпретацию поддерживаю: что Цайетмайер реален или что он лишь порождение разума Кривоклята. Оба варианта кажутся мне достойными существования.
 Яцек Дехнель
Яцек Дехнель
— Хочу поговорить об ответственности перед человеком, который становится прототипом героя художественного произведения (даже если он уже мертв). Не страшно придумывать жизнь реального человека?
— Конечно, написание нон-фикшна — это совсем другое, я занимаюсь этим прямо сейчас, пишу о людях, которые не так давно умерли, и постоянно размышляю: скажем, изучив различные источники и мнения, могу ли я их цитировать или нет, и каждую секунду ощущаю себя судьей, который пытается сохранить честность и беспристрастность. Но Кривоклят не Больман. Я не знаю побуждений Больмана, а то, что я прочитал в интервью, показалось мне довольно скучным: это была болезнь, он не мог с ней справиться, ему стало лучше, бла-бла-бла. То есть я понимаю, что это правда, но она совершенно не интересна мне с литературной точки зрения. Так что идеи и рассуждения Кривоклята принадлежат ему. И в некоторой степени мне.
— То есть вы согласны с мнением Кривоклята о том, что произведения искусства в наши дни обесцениваются?
— Только не в финансовом отношении, нет. Денежная стоимость произведений искусства лишь увеличивается. Моя книга высмеивает отношение к искусству как к чему-то, что помогает нам стать лучше; шедевры превращаются просто в драгоценности, в предметы роскоши, которые люди запирают, словно волшебные сокровища, в тщательно охраняемых музейных хранилищах. И это Кривоклят ненавидит сильнее всего: мы ходим в музеи, прогуливаемся по залам, делаем селфи, покупаем гротескные сувениры, но вряд ли когда-либо по-настоящему встречаемся с произведениями искусства. Мы не вступаем с ними в диалог, не задаем им вопросы и не слушаем их ответы.
— В нашем разговоре перед интервью вы упомянули, что перевод книги на русский язык немного отличается от оригинала. В чем заключаются эти отличия?
— Юрий Чайников, который переводил книгу, заранее сообщил мне, что некоторые места могут быть опасны для издателя из-за российских антитеррористических законов: например, описание того, как Кривоклят покупает кислоту, якобы можно рассматривать как руководство к действию. Конечно, все, что написано в книге, придумано и не имеет никакого практического значения для любого реального террориста, но я согласился на сокращения, поскольку это не влияет на сюжет и смысл книги. Я бы не согласился подвергать цензуре что-либо важное, что может преследоваться в соответствии с путинскими анти-ЛГБТ-законами, но в «Кривокляте» таких эпизодов нет, а вся эта «террористическая» составляющая — просто украшение.
— Насколько я знаю, в жизни вы предпочитаете дендизм, а в текстах часто оглядываетесь в прошлое. Но в «Кривокляте» вы решили обратиться к настоящему...
— На самом деле я просто пишу книги, которые отличаются друг от друга. Проще говоря, я пишу о том, что меня интересуют, и не вижу причин возвращаться к вопросам, над которыми уже работал. Кроме того, то, как я одеваюсь, не имеет ничего общего с тем, о чем я пишу, хотя, конечно, и Кривоклят может восприниматься как радикальный денди, последний фланер, живущий разрушением. Но важно отметить: к счастью, ни одно из произведений искусства, поврежденных Больманом, не было уничтожено, все они отреставрированы, хотя в случае с картинами Дюрера это заняло годы (двадцать один год, если быть точным).
 — В Польше ваш роман вызвал неоднозначную реакцию. Какие претензии вам предъявляли?
— В Польше ваш роман вызвал неоднозначную реакцию. Какие претензии вам предъявляли?
Я бы сказал, что роман приняли плохо, за исключением лонг-листа одной из главных литературных премий. Книгу хвалили за то, что в ней манера Бернхарда доведена «до совершенства», но при этом утверждали, что австрийский писатель использовал собственный стиль, чтобы писать на важнейшие темы, касающиеся человеческой природы, я же делал это ради чистого удовольствия от литературной «подделки», чтобы порассуждать о таких неактуальных вещах, как картины, и, пока Бернхард в муках рождал свои книги из реальной травмы, я писал их, не испытывая никаких глубоких чувств. Довольно странное утверждение, ведь критики, очевидно, не могут знать о моих реальных травмах. А вот что меня действительно бесило, так это утверждение, будто искусство совершенно не важно в современном мире, что оно — декоративное дополнение жизни. Это утверждение совершенно противоречит моему интуитивному восприятию мира и, конечно, тому, о чем я писал. Более того, оно полностью противоречит идеям самого Бернхарда: взять хотя бы «Старых мастеров», возможно, самую важную его пьесу об искусстве, или его последний роман «Изничтожение». Искусство там представлено как вакцина против самых отвратительных привычек общества.
— Как вы, изучив вопрос, можете объяснить всплеск интереса к живописным выставкам во всем мире?
— А что, действительно есть такой всплеск? Хотя, конечно, картинки... Мы не читаем, потому что чтение отнимает слишком много времени и утомительно, зато предпочитаем смотреть картинки, движущиеся или нет. Но настоящие картины? Сомневаюсь. Вообще говоря, живопись имела решающее значение для европейского искусства со времен Ренессанса до Второй мировой войны, но ее роль постепенно уменьшалась с развитием фотографии, кино, художественных перформансов и инсталляций. Российская академическая традиция с ее консервативным подходом к обучению рисованию довольно уникальна, в то время как многие другие художественные школы занижают важность курсов рисования и живописи по сравнению с новыми медиа. Такое ощущение, что живопись сейчас воспринимается как декоративное искусство, украшающее квартиры юристов и врачей. Но достаточно посмотреть на полотна Фрэнсиса Бэкона, чтобы понять, насколько глупо так думать.