«Я вижу конские свободы и равноправие коров!»
Редактор журнала «Носорог» о любимых литературных животных
Хотя наш журнал называется «Носорог», пока только один его номер был посвящен исключительно животным. Понятно, что его название не связано напрямую ни с миром животных, ни с пьесой Ионеско, с которой его чаще всего ассоциируют. Образ носорога скорее следует трактовать как реальный прототип волшебного единорога, за которым охотится человечество, надеясь добыть заключенное в его роге уникальное противоядие. Но здесь нет ничего нового: литературу и все искусство в целом часто сравнивают с противоядием. Только, увы, даже несмотря на то, что литературные города, леса и планеты иногда очень плотно заселены животными, для последних никакого проку от этого нет, и некоторые виды носорогов в реальности становятся столь же редкими, как и единороги.
Осел Луций
 Дехтерев Б.А – Иллюстрация к роману Апулея «Золотой осел»
Дехтерев Б.А – Иллюстрация к роману Апулея «Золотой осел»
Известный и любимый, уверена, не только мной и Онегиным сюжет: римский юноша Луций, находясь по делам в Фессалии, в центре всевозможных колдовских утех, насмотрелся на метаморфозы и попросил свою возлюбленную превратить его в сову. Но по ошибке Луций становится ослом — очевидной противоположностью мудрой птицы. Однако роман Апулея реабилитирует это прекрасное животное во всех смыслах: за мучения, им испытанные, он наконец заслуживает милость богини, к нему возвращает человеческий облик, но в духовном плане совершенно иной — получается, что именно опыт ослиной жизни помог очистить душу Луция. Образ осла в целом, конечно, тоже только выигрывает: такой смекалки и прыти ожидаешь далеко не от всех литературных животных. Осел влюбляет в себя людей в прямом смысле: эпизод о страсти знатной матроны к Луцию-ослу и их ночных любовных свиданиях — один из самых известных фрагментов романа.
«Но на меня напал немалый страх при мысли, каким образом с такими огромными и грубыми ножищами я могу взобраться на нежную матрону, как заключу своими копытами в объятия столь белоснежное и хрупкое тело, сотворенное как бы из молока и меда, как маленькие губки, розовеющие душистой росой, буду целовать я огромным ртом и безобразными, как камни, зубами и, наконец, каким манером женщина, как бы ни сжигало до мозга костей ее любострастие, может принять детородный орган таких размеров. Горе мне! придется, видно, за увечье, причиненное благородной гражданке, быть мне отданным на растерзание диким зверям и, таким образом, участвовать в празднике моего хозяина. Меж тем она снова осыпает меня ласкательными именами, беспрерывно целует, нежно щебечет, пожирая меня взорами, и заключает все восклицанием: „Держу тебя, держу тебя, мой голубок, мой воробышек”. И с этими словами доказывает мне, как несостоятельны были мои рассуждения и страх нелеп».
(Перевод Михаила Кузмина)
Лошадь Пролетарская Сила
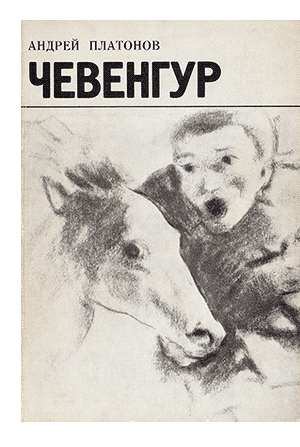 Русская литература заставляет страдать лошадей — не меньше достается, пожалуй, только собакам. До сих пор жутко вспоминать, скажем, первое столкновение со сном Раскольникова. Но даже эта сцена меркнет перед некоторыми платоновскими (иногда совсем короткими) описаниями боли, испытываемой животными. Хотя как раз одно из самых известных животных у Платонова — лошадь Пролетарская сила из Чевенгура, верный друг Копенкина — не знает многих мучений своего вида, ведь у нее есть великая цель. Пролетарская сила — идеологически правильная лошадь, помогающая герою и осознающая дело борьбы с контрреволюцией, и, несмотря на то, что ее образ считают обычно скорее пародийным, кажется, что она воплощение высшей революции — борьбы за освобождение угнетенных людьми животных. Лозунгом такой революции должно стать хлебниковское «Я вижу конские свободы и равноправие коров!».
Русская литература заставляет страдать лошадей — не меньше достается, пожалуй, только собакам. До сих пор жутко вспоминать, скажем, первое столкновение со сном Раскольникова. Но даже эта сцена меркнет перед некоторыми платоновскими (иногда совсем короткими) описаниями боли, испытываемой животными. Хотя как раз одно из самых известных животных у Платонова — лошадь Пролетарская сила из Чевенгура, верный друг Копенкина — не знает многих мучений своего вида, ведь у нее есть великая цель. Пролетарская сила — идеологически правильная лошадь, помогающая герою и осознающая дело борьбы с контрреволюцией, и, несмотря на то, что ее образ считают обычно скорее пародийным, кажется, что она воплощение высшей революции — борьбы за освобождение угнетенных людьми животных. Лозунгом такой революции должно стать хлебниковское «Я вижу конские свободы и равноправие коров!».
«Лошадь чувствовала благодарность и с усердием вдавливала попутную траву в ее земную основу. Копенкин особо не направлял коня, если дорога неожиданно расходилась надвое. Пролетарская Сила самостоятельно предпочитала одну дорогу другой и всегда выходила туда, где нуждались в вооруженной руке Копенкина. Копенкин же действовал без плана и маршрута, а наугад и на волю коня; он считал общую жизнь умней своей головы».
Собака-исследователь
Мой список был бы неполным, если бы в нем не было хотя бы одной собаки. Из всех литературных собак хочу отметить если не самого мудрого зверя во всей литературе, то уж точно животное с самым аналитическим складом ума. Речь о собаке-исследователе из повести Кафки, новый перевод которой, сделанный Анной Глазовой, был напечатан в одном из прошлых «Носорогов». И хотя собака — главный герой, как и другие эпизодические персонажи-собаки «скрывают» в себе людей, их проблемы и вопросы, именно этот текст, как никакой другой, показывает суть трагедии собачьего существования. Собаки у Кафки живут, не замечая людей и, соответственно, не осознавая их господства и своей несвободы. Последнее можно считать их благом, ведь они не ведают о своем рабстве, но в то же время отсутствие человека в собачьей картине мира никогда не позволит ни одной собаке понять истинное положение вещей — даже главному герою, всю жизнь стремившемуся к этому.
 «Кроме нас, собак, вокруг множество других существ, жалких, ничтожных, бессловесных, способных издавать только отдельные крики; многие собаки изучают их, дают им имена, стараются помочь, воспитать их, облагородить и тому подобное. Мне они безразличны, когда не мешаются под ногами, они все одинаковые, я не задерживаю на них взгляда. Однако то, как мало они держатся сообща в отличие от нас, собак, как они недружелюбны друг к другу, как неприветливо и в какой-то мере даже враждебно они сходятся и расходятся, слишком бросается в глаза, чтобы я этого не отметил; их способен объединить один только низменный интерес, да и тот тоже поверхностный, и даже это часто ведет лишь к ненависти и дракам. Не то что мы, собаки! Мы, можно сказать, живем прямо-таки одним скопом, несмотря на бессчетные и бездонные различия, пролегшие между нами с течением времени. Одним скопом! Нас тянет друг к другу, и нет ничего, что способно противостоять этой тяге, все наши законы и порядки — как те немногие, которые я помню, так и те бесчисленные, которые я забыл, — сводятся к нашей тоске по величайшей из доступных нам радостей — по радости от теплой всеобщей близости».
«Кроме нас, собак, вокруг множество других существ, жалких, ничтожных, бессловесных, способных издавать только отдельные крики; многие собаки изучают их, дают им имена, стараются помочь, воспитать их, облагородить и тому подобное. Мне они безразличны, когда не мешаются под ногами, они все одинаковые, я не задерживаю на них взгляда. Однако то, как мало они держатся сообща в отличие от нас, собак, как они недружелюбны друг к другу, как неприветливо и в какой-то мере даже враждебно они сходятся и расходятся, слишком бросается в глаза, чтобы я этого не отметил; их способен объединить один только низменный интерес, да и тот тоже поверхностный, и даже это часто ведет лишь к ненависти и дракам. Не то что мы, собаки! Мы, можно сказать, живем прямо-таки одним скопом, несмотря на бессчетные и бездонные различия, пролегшие между нами с течением времени. Одним скопом! Нас тянет друг к другу, и нет ничего, что способно противостоять этой тяге, все наши законы и порядки — как те немногие, которые я помню, так и те бесчисленные, которые я забыл, — сводятся к нашей тоске по величайшей из доступных нам радостей — по радости от теплой всеобщей близости».
(Перевод Анны Глазовой)
Ворон Nevermore
Мудрый черный ворон, твердящий вопрошающему его человеку nevermore, на русском разговаривает более разнообразно: иногда отвечает «не вернуть» или «никогда», иногда остается верен классическому nevermore. Смысл не меняется. Благодаря исследованиям биолога Джона Марзлаффа известно, что вороны способны распознавать и запоминать человеческие лица, так что можно представить, что ворон Эдгара По знал, к кому прилетел. Умнейшая птица может ответить на главные вопросы человека (и не только героя стихотворения). Только вот человек никак не может с этими ответами смириться и неистово злится на птицу, говорящую правду. Не знаю, виноват в этом ворон или нет, но слово «никогда» для меня всегда было самым печальным и пугающим.

«И вскричал я в скорби страстной: „Птица ты — иль дух ужасный,
Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, —
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, — я молю, скажи, когда?”
Каркнул Ворон: „Никогда”».
(Перевод Константина Бальмонта)
Недотыкомка
Серая недотыкомка — «тварь неопределенных очертаний», существо, в котором воплотились страхи и безумие героя сологубовского «Мелкого беса» Передонова, все гадкое и скользкое в нем и вокруг него. Недотыкомка в каком-то смысле родственница черта, в обличье человека навещавшего Ивана Карамазова, но она все же представляется мне вполне зооморфной — наверное, из-за знаменитой иллюстрации Добужинского, когда-то покорившей меня — милое длинноносое и улыбающееся существо с руками и копытцами, никак не ассоциирующееся с хтоническим и хаотическим ужасом.
«Одно странное обстоятельство смутило его. Откуда-то прибежала маленькая тварь неопределенных очертаний — маленькая, серая, юркая недотыкомка. Она посмеивалась и дрожала, и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала, убегала за дверь или под шкап, а через минуту появлялась снова, и дрожала, и дразнилась — серая, безликая, юркая. Наконец, уж когда кончался молебен, Передонов догадался и зачурался шопотом. Недотыкомка зашипела тихо-тихо, сжалась в малый комок и укатилась за дверь. Передонов вздохнул облегченно».
Лисонька и Волчок
Парторг Дунаев в первом томе «Мифогенной любви каст» Ануфриева и Пепперштейна встречает в волшебном галлюциногенном лесу едва ли не весь зверинец русских сказок. Первой же на его пути попадается Лисонька, девичьим голосом заговорившая с Дунаевым, — почти что русский аналог Цербера, стоявшего у входа в потусторонний мир. Парторг от ужаса ударил ее ногой и побежал прочь, но рыжий хвост еще долго маячил перед ним. Всегда думала, что, если бы Дунаев не бил Лисоньку, возможно, в лесу ему пришлось бы полегче. Еще он встретил Зайца, Мишутку и, наверное, самого печального персонажа — Волка-интеллигента, свернутого в рулон. Его называют начитанным за то, что прочел «около трех тысяч фраз, никак не связанных между собой». Волку, видимо, за его «интеллигентность» досталось не меньше Лисоньки — парторг пробил в его шкуре дыру, «вывалился в нее и полетел».
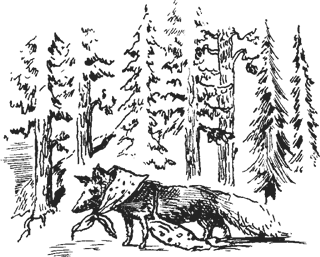
«Животное было небольшим, грязным, с длинным хвостом. Пучки травы и глиняные пятна покрывали шкуру. Голова была повязана потемневшей сырой косынкой в красный горошек. Темный от грязи синий передник, завязанный тесемкой на спине, волочился по мокрому мху.
„Кто ж тебя так разодел, Патрикевна?” — ласково спросил Дунаев.
Вдруг он услышал ответ. Потом он считал, что именно в этот момент, а не в какой-либо другой, он стал стариком. Голос у лисы был тихий, почти беззвучный, и звуки шли откуда-то со стороны. Казалось, что говорит молодая девушка, невинная и скрытная, поверяющая кому-то свои нежные секреты.
„Бабушка-избушка приодела, братец! Посеред лесочка, в черном овражке, да творожком обложена — маслицем пообмазана, стоит, братец, бабушка и бревном не ведет”».