Я видел, как горят эти книги
Может ли книга быть и считаться мусором?
Книги все же настойчиво антропоморфны — у них человеческая участь. Они описывается человекоподобными культурными метафорами. Есть Главная книга, книжный Бог, по образу и подобию которой каждая из них создана. Книга, как и люди, сама производит мусор — у нее есть черновой и чистовой варианты. У книги есть код, знаковый порядок — ДНК; писательские муки описываются в родовспомогательных терминах.
Я привожу самый общий взгляд на книгу, профанное суждение, затертый метафорический ряд, но он формирует массовое отношение к книге. И это именно то, о чем мы и будем говорить. У книги, как и у человека, три судьбы — индивидуальная, общинная и глобальная. Индивидуальная (судьба одного экземпляра) мало предсказуема. И зависит от рока, планиды — возможны немыслимые, андерсеновские приключения книги (как вещи), возможна совершенная ее невостребованность. Общинная, племенная судьба уже зависит от внутреннего книжного содержания. Это совокупная участь всех экземпляров книги, принадлежащих перу одного автора, — и в зависимости от статуса автора доля их приблизительно схожа: как относительно схожа судьба жителей одного государства. Богато ли оно, признано, благополучно — все члены общины в той или иной степени разделяют общий успех и неуспех, довольство или коллективные скорби своей почти государственной общности. И есть еще глобальная судьба — участь Книги вообще, как части вселенской культуры. Точно так же, как и у нас (всех живущих и всех умерших) есть дополнительная общечеловеческая судьба.
И если вы видите заголовок в массовом издании — к примеру, «Смерть книги», — то вы, попеняв условному борзописцу за любовь к драме, разумеется, сразу подумаете, что речь идет о вопросах самых широких, о том, предположим, что электронные носители вытесняют бумагу.
А если речь идет о смерти книги, скажем, писателя Алексея Кузьмича Югова «На большой реке», издательство «Молодая гвардия», картонажный переплет, 1960 года выпуска, 574 страницы, тираж — 27 000 экземпляров? Номера экземпляра нет, и быть не должно, — в массовых изданиях он и не ставится.
Книжку «На большой реке» купил в 1963 году Илларион Ищенков, молодой инженер. Зачем — бог весть, она про строительство Волжской ГЭС. Но, возможно, молодому инженеру захотелось почитать про строительство Волжской ГЭС, тем более что была надежда, что перед ним производственный, но роман — на обложке юноша в клетчатом джемпере смотрит на девушку прекрасным шестидесятническим взглядом, ласковым, снисходительным, горячим. Как инь-женер на янь-женера. В семье Иллариона Ищенкова ожидалось пополнение. Жарко светило солнце полдня века; книга, верно, была прочитана. Шло время. Молодые переехали в новостроенный панельный дом в подмкадную даль. Это еще не было признаком печали и неудачи. Югов переехал с ними и получил новую полку — молодые построили стеллажи во всю стену. Без всяких стекол, простые, из душевного тепла и палок: стеллажи — центр дома советских разночинцев. Книжное собрание росло: пошли подписные издания, удалось получить «Всемирную литературу». Там Югов простоял сорок пять лет. Ни разу его не тронули — но в этом тоже есть счастье и покой, нас тоже господь не часто берет с полки и перетряхивает. Когда перетряхивают — страшно. Иногда — больно. И вот однажды Югова сняли с полки (стеллажи пошли под снос, квартире пришло время хоть как-то обновиться), тут пришлось пройти проверку: подорожал ли Югов к почтенным своим летам или подешевел; пожилой ли он отрок (все лучшее — в молодости) или антиквариат. Тоже неприятная проверка, и нам ведь приходится идти на этот просмотр.
Югова вынесли в подъезд, на первый этаж, к почтовым ящикам. Там его взяла одна женщина. И пролистала, и вздохнула, и положила обратно. Впечатление для Югова. Долго бы вспоминать об этом, стоя на полке. Но утром «Большую реку» вместе с Б. Н. Патрикеевым, который назвался «Тридцать лет со спаниелем» вынесли к мусорным бакам и положили на картонку. Прошли две дамы, повздыхали: ох, ох, где ж духовность наша? А потом два приятных молодых человека — Азамджон Ризоев и Чупон Нахмиддинов — взяли его покататься на велосипеде и отвезли еще к одному замечательному человеку, на Бусиновскую горку. Человек Югова погладил по обложке и немного покачал на руках. А потом Югова распотрошили, положили на транспортер и повезли в такой большой котел, где крутится бумажная масса. И он умер.
Но Ищенкова пережил. А дамой, которая его листала в подъезде, была я. И все вспоминаю эту большую реку. Но все дело в том, что творец нашего Югова — старший, так сказать, Югов, Алексей Кузьмич — писатель мало того что про ГЭС, но был еще и изрядным мракобесом и настаивал на славянском происхождении Ахилесса. Но я не прочла первых строк книжки и до сих пор как-то тянет — трудно было прочесть? Первые строки так много говорят, а книгу эту полвека никто не читал. И в интернете нет текста «Большой реки», если только в РГБ. Уж и не узнаешь, что там хоть в первых словах написано.
История Югова — типичная история. Мы освобождаемся от советских библиотек. Данные Левада-центра таковы: в 1990 году 10% семей в СССР имели дома свыше одной тысячи книг, в 2009-м — 2%. Предполагаю, что сейчас эта цифра мало изменилась — все же свои два процента стойкие разночинцы держат, — но мы говорим о массовом движении.
Книга, вынесенная к мусорному баку, — привычная картина. Но одновременно все еще повод для драматического разговора. Может ли книга быть и считаться мусором? Стать полноценной частью мусорного траффика?
Что в нас протестует против этого события? Вот эта книжная антропоморфность? Воспитание? Страх темноты? Представление о книге как о сакральном предмете? А в круге христианской культуры книга первоначально безусловно сакральный предмет?
Я собрала список мнений (если не назвать их досужих разговорами) на тему «Можно ли выбрасывать книги?», пройдя по форумам, где задавались этим вопросом. Форумы самые разные, в основном родительские. Это комфортные площадки для подобных вопросов. Самый частый ответ — «Нет, книги это святое». Даже в местах, позиционирующих себя как пространства просвещенные (например, московская группа ВКонтакте «Букинист. Служба спасения книг») можно встретить это удобное суждение: «Книга — святое. Если Вы нас нашли, то Вы именно такого мнения. Здесь вы можете меняться друг с другом найденными и чуть не пропавшими без вести книгами...». Пропавшие без вести книги. Мы вступаем на поле священного.
Другие типичные ответы — «Книга как хлеб, ее нельзя выбрасывать. Это грех. Минус к карме», «Книга — живое; а вы выбросите старого кота, когда он вам надоест?». Еще несколько типов ответов складываются в следующее: книга — продукт труда, прежде всего духовного (высокого), и потому не вещь, и не подлежит великому вещевому утилизационному пути.
Итак: святое, живое, сакральное (выбрасывать — грех), не вещь, больше чем вещь.
Присваивать статус святости («дети — это святое», «деды — это святое») — традиция последнего времени. И только такое утверждение звучит — прекращается всякий спор на любом форуме или в социальной сети, исключая Фейсбук (там дети иже херувимы не прокатывают). Присвоение это — способ выстраивать вокруг себя иерархию неприкосновенного. Позволяющее любому желающему создать защитный кокон — стройную, архаичную, малоподвижную модель «правильного» мироустройства.
В Фейсбуке изгнание книг на помойку (то есть превращение книги в мусор) обсуждается редко, чаще обсуждается промежуточная ссылка — вынос книг на подоконник в подъезд. Действие это не совсем точно называют буккроссингом. При обсуждении изгнания всегда звучит тема «плохой» книги: книгу выставили за порог, потому что плохая. Поставили в угол. Это позволяет придать всему произошедшему оттенок чистого, благонамеренного дела, но исключает идею буккроссинга: можно ли добровольно делиться тем, что плохо? Говорящие часто добавляют: «Только выставил книгу в подъезд, ее тотчас взяли. Значит, кому-то нужна!» Чаще всего книги забирают (и сдают в макулатуру) домовые работники. Но — что не видишь, того и не существует.
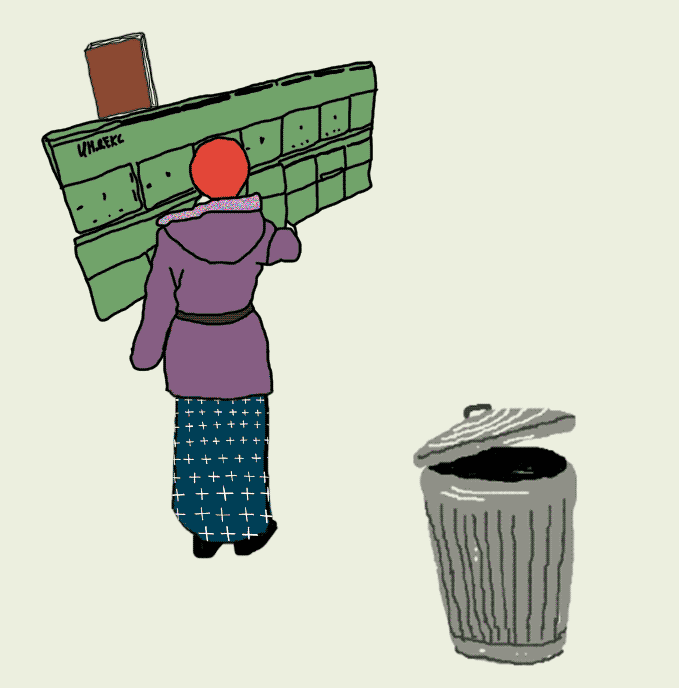
Но все это обывательское отношение к новому «мусорному» статусу книги. Профессионалы видят не то чтобы дальше, но больше.
Пока в хороших домах ссылали «в буккроссинг» плохие книжки, в Твери Михаил Архиреев, книжный редактор, интеллектуал, любитель книжных развалов и блошиных рынков, книжный искатель, ходил по улицам и бормотал: «Что делать? Делать-то что»?.
Так утвердилось название его букинистического магазина. Впрочем, он думал, не назвать ли его «Лолита», или «Упадок и разрушение», или «Кто виноват?». Магазин «Что делать?» пока сетевой. Сейчас это с страница ВКонтакте с 473 подписчиками и радующей (для начала дела) активностью. В будущем Михаил планирует из группы сделать своего рода СМИ, а магазин перевести из интернета в реальность.
Во время Библионочи он выступал в «Тверской Горьковке», говорил о своих книжных находках, о букинистической торговле в России. Название его выступления было гремящим — «Я видел, как горят эти книги».
Но на самом деле Михаил не видел, как горят книги. Мы — возможно, до поры до времени — проживаем вполне защищенную повседневностью жизнь и не видели многое из того, что знаем не как картину мира, а как картинку, как «далекое страшное». Не каждый из нас видел умирание, и не многие видели даже такую маленькую смерть, как сожжение книги. Но вид сжигаемой книги — мощный культурный удар: книжная казнь наполнена слишком многими коннотациями и смыслами. Книги плохо горят, тяжело. И если книга в костре раскрывается, то страницы, стоящие под огнем дыбом, начинают заворачиваться, и получается что-то вроде пепельной розы — дополнительный неврастенический подарок смотрящему.
Вот Евгений Гинтов, владелец иркутского «Книжного приюта», видел, как горят книги. На берегу речки Ушаковки зимой бездомные жгут книги, чтобы согреться. И тут, в общем, ничего не скажешь: зимней ночью в Иркутске без костра легко замерзнуть насмерть. Тут книги до смерти нужны — другой разговор. Хотя известное чувство неправильности и, возможно, непоправимой неправильности остается: «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!». Это ощущение связанности всего со всем у студента («дотронулся до одного конца, как дрогнул другой») ломается у иркутского ночного костра, где тоже страшная, унылая, длинная ночь, и понятное несчастье — и все же в этом костре горят книги.
Михаил Архиреев и Евгений Гинтов заняты одним и тем же делом — спасают книги, выводя их из мусорного обихода. При этом они совершенно разные люди, и занимаются этой работой по отличным друг от друга причинам. Михаил — хочет вернуть книге ее ценность, Евгений — сохранить правильный жизненный порядок.
Михаил в своей работе сталкивается с необыкновенно интересной ситуацией, сложившейся в Твери. Дело в том, что в городе с пятидесятых годов прошлого века работали два мощных полиграфических комбината: Тверской (Калининский) полиграфкомплекс союзного подчинения и Комбинат детской литературы республиканского подчинения. То были могучие предприятия, выпускающие реально миллионы книг — в день по 150–200 тысяч каждый, — со своей мифологией, со своей историей благополучия и падения, с любовью, которую рабочие испытывают к советским годам процветания предприятий. К их «безнапастию». Но правда устройства советского труда, своего рода рабочей ренты (хотя Симон Кордонский, автор термина, скорее назовет это присвоением ресурса) такова, что трудящиеся в массовом порядке уносили с фабрики продукты собственного трудового усилия — а именно книги. Воровали их, грубо говоря.
Монолог Михаила:
— Тверь забита книгами, я видел квартиры, где старшие родственницы работали на полиграфкомбинате детской литературы, заставленной детскими книгами, которые ни разу никто не открывал. По нескольку тысяч книг стоит. Это и есть моя тема — изнаночная сторона книжной культуры, новая история бытования книги. Какой статус у книги в таком пространстве? Полумакулатура, полугрязь. То есть книгу воспринимают как некий бесплатный ресурс, от нее хотят избавиться, но при этом за нее хотят получить какие-то деньги. Как книжный старатель, я вижу много откровенных картин. Недавно купил посмертную библиотеку археолога, хорошего специалиста, собирателя. Две тысячи томов.
Я вхожу в гараж и вижу, что там если не золото, то серебро русской культуры, уникальные подборки малотиражной литературы, с 1950-х по 1980–1990-е годы, редкие вещи, — и вижу, что книги уже умирают, подмокают. Родственники, разумеется, совершенно безразличны, им бы гараж освободить. Но не бесплатно!
А макулатурные накопители? Там тоннами лежат сданные скопом, за малую мзду, книги. Недавно был на одной из таких баз, они говорят: за месяц 16 тонн привезли.
Вы спрашивали про горящие книги. У меня другая стихия — вода. Я видел, как они гниют, как сотни книг лежат в луже. Это мой огонь, который я действительно видел. Недавно у меня была удачная находка — на блошином рынке удалось купить три журнала, два «Ежа» и одного «Чижа», те самые, которые столь нами всеми любимы, классика жанра. Продали мне их по 300 рублей. Я не знаю, как там и что у продавцов вышло, но они журналы промочили. На морозе они заледенели, ими можно было постучать друг об друга, и они б звенели — бам-бам. Два ледяных «Ежа» и один «Чиж». Хотя я очень аккуратно их сушил — естественно, они потеряли форму. Для коллекционеров два журнала теперь вообще неинтересны. Я сразу видел, что два совсем плохи, но они смотрели на меня и говорили: «Купи нас, пожалуйста». И это происходит на блошином рынке, где у людей есть коммерческая идея, коммерческая составляющая.
Мне не хотелось бы говорить о варварстве, и тем более новом варварстве, — это глупо. Варварство — обычное состояние жизни культуры.
Но то, что происходит сейчас с книгами, заставляет меня думать о другом.
У меня такое ощущение, что люди хотят избавиться от прошлого. Книга часто ассоциируется с прошлым, они хотят избавиться от них и сделать голые стены. Минимизировать чужие голоса, чтобы стены не шумели, чтобы они не задавали вопросы. А книги задают вопросы. Ты читаешь корешки, и что-то начинает переворачиваться, даже если ты читаешь название «Русский орфографический словарь». Возможно, это желание тишины связано с попыткой минимизировать информацию.
Предположим, хочется отдохнуть, чтобы не шумело вокруг, чтобы были голые стены, чтобы не было лишних вопросов, пока человек находится в своем пространстве. Раньше этого не было — за информацией бегали, книга и была практически единственным источником информации. Но, с другой стороны, я открываю сейчас букинистический магазин и открываю его по одной простой причине. Мои покупатели — люди 20–30 лет, у которых родители уже сделали голые стены, и теперь они хотят заполнить их правильными вещами, правильными вопросами, — если рассматривать корешок книги как вопрос и как вызов. И они готовы платить, если это красивая книга, если о ней рассказано хорошо.
Есть определенный барьер беспроблемной траты. Я для себя как продавец установил его интуитивным путем. Это — 300 рублей. 300 рублей люди почти всегда готовы потратить на книгу — и это в два раза меньше, чем на Озоне.
В чем смысл нашего магазина? У нас в городе нет посредников, которые связывали бы два мира — мир макулатуры, мир горящих книг, с миром людей. В Твери нет «Букиниста» уже 4 года. Люди уже начали забывать, что книга может что-то стоить, что можно не тащить ее на помойку и не сдавать на базу, а попробовать ее отнести знающим людям. Отсутствие институции порождает пренебрежительное отношение к книге. Место, где есть эксперт, готовый вернуть книгу в актуальное пространство, — такая же базовая вещь, как университет, как поликлиника. В моем понимании. Посредник должен не только оценить, но и рекомендовать книгу. Увлечь ею, показать ее. Это своего рода общественная книжная критика. Возвращении книге репутации.
Я сделал группу ВКонтакте, потому что Facebook высокомерный, он скорее про хороший текст и для людей постарше, а ВКонтакте как раз та целевая аудитория, про которую я говорил, от двадцати до тридцати пяти, создающие невыносимо приятные паблики, про музыку, про книги. За 2 недели я набрал 473 подписчика, и это немало, потому что в провинциальном городе тысяча подписчиков, две, три — это очень хорошо. Сила ушла из библиотек в другие места, вот ВКонтакт. Помимо нашей — новой — группы, там есть, скажем, сообщество «Тверской букинист». Мощный книгообмен, тысяча семьсот тридцать подписчиков — это очень хороша история.
Жизнь невозможно отменить, как говорила Алиса. «Никогда такого не бывало, чтобы ничего не бывало». Нет в городе «Букиниста». И много книг. И гаражи. И вода. И люди сами организуются, чтобы наладить книжный траффик. Я не боюсь конкуренции — мне хочется как можно больше книг вытащить из этого огня.
А у Евгения Гинтова другая метафора, другое потрясение. Он открыл «Книжный Приют» во дворе своего дома. Дом в частном секторе Иркутска, деревянный, во дворе Евгений поставил промышленного размера навес и жестяные стеллажи. Так на личном участке он призревает сейчас 40 тысяч книг. Все они были выброшены.

Фото: Книжный приют в Иркутске
Евгению двадцать восемь лет, он хорош собой. Это совсем другой человеческий тип. Он лейтенант в отставке. Криминалист, закончил институт МВД. Не захотел служить, потому как там — система. А он человек с идеями. Перебирал работы, служил в десанте.
Открыл небольшое дело по сбору и утилизации макулатуры.
И столкнулся с тем, с чем и Михаил, — с массовым вымыванием книг из домов.
Своей макулатурной приемкой он занимается три года. За это время сдал на переработку 400 тонн макулатуры и заработал 3-ю степень остеохондроза.
Это интересная история — из чего сейчас она состоит, макулатура? Где ты, мусорный археолог? Бумаги, как мне кажется, в домах меньше, чем книг. Состоит, помимо книг, вот из чего: из огромного количества глянцевых журналов, детских тетрадей и секретной документации. Бумагой сейчас пользуются только чиновники и дети.
А вот документацией Гинтов как раз и занимается. То есть, собственно, заключает договоры с фирмами, которые обязаны сдавать свои архивы на утилизацию. Это и фирмы, которые заинтересованы в сохранении коммерческой тайны, и госструктуры, в бумагах которых присутствуют персональные данные граждан. В этом деле есть свои тонкости: разные степени секретности и разные степени измельчения (если пускать бумагу в шредер). Но — во многих организациях по регламенту положено сжигать бумаги.
А Евгений за эти свои макулатурные три года добивался, чтобы архивы не сжигали, а «пускали в производство». Он говорит: «Брал на себя ответственность за данные и пытался дать жизнь переработке, потому что если мы еще будем все свои бумаги сжигать, то туалетную бумагу и салфетки станем у китайцев покупать. Хотя о чем я? И так покупаем. Маленько у нас система построена не совсем адекватно: к чему сжигать бумагу, потому что кому-то надо отчитаться? Почему бы не замешать в чан, не отделить краску, не переработать? Никто не хочет заморачиваться. Ну вот, а мной 400 тонн сохранено и пущено в переработку, поэтому я, можно сказать, целую деляну леса спас.
Хотя когда проезжаешь мимо железнодорожных путей (у нас улица есть, Трактовая, я постоянно по ней езжу) и видишь в просвете домов платформу со срубленными деревьями, уложенными выше трехэтажного дома, и она проплывает мимо тебя, со всей этой своей несообразной высотой, со всей мощью — нерадостной мощью, — я просто не понимаю, что делаю. Крупинку какую-то вношу, а она тут же растворяется. И лес уходит этими гигантскими платформами в тот же Китай — на салфетки».
Но Гинтов работает: устраивает акции по сдаче макулатуры не за деньги, а за саженцы. Даже и живо все проходит. Евгений говорит: «Мужчина один приехал, сказал: „Я закрываю фирму, уничтожьте мои данные и дайте мне елку. Я назову елку в честь фирмы”. А ведь я, если подсчитать, спас практически девять тысяч деревьев».
Гинтов — спасатель. Спасает макулатуру, лес, книги. «В городе выбрасывают очень много книг», — говорит Гинтов.
Он привозит их под свой навес. Пять в дней в неделю собирает макулатуру, два дня разбирает книги. Прийти к Гинтову в приют может каждый желающий, в хорошие недели бывает человек пятьдесят.
До определенного времени Евгений отдавал книги бесплатно. Но были нерадостные случаи. У него два телефона: один для макулатурного сбора, другой личный и приютский. И так случалось, что в выходные приходили к нему жаждущие света и набирали мешки книг. А в понедельник звонили ему же — как сборщику — и приносили эти книги сдавать. «Я же криминалист, — говорит Гинчев, — я людей помню. Книги помню. Однажды обратился ко мне детский дом — и я собрал для детей небольшую, но крепкую библиотеку. Выбирал хорошие детские книги. А через неделю звонят мне оттуда же, но уже на телефон приемки: ой, приезжайте, макулатура у нас завалялась. Приехал, вышел из машины. Они, конечно, узнали меня. Что ж, ну покраснели. Я просто забрал книги и уехал».
С тех пор каждая книга в приюте стоит 50 рублей. Приют устроен как книжный развал — свою книгу там надо искать. Но в этом есть и удовольствие. Гинтов не исправляет нравы — он возвращает книгу на положенное ей место: «Люди жалуются на цены в магазинах — и приходят, и ищут. Книжный приют создает баланс между теми, у кого переизбыток книг и у кого нехватка. Вот же она, книга, лежит, и если она может послужить кому-то, то в этом и цель».
Евгений вообще-то человек жесткий. Он не видит проблемы в утилизации книг — если они «с утратами». Но не согласен делить книги на «плохие» и «хорошие». Он не может не видеть, что книги перестали быть всеобщей ценностью, одобряемым социальным капиталом. Он видел учителей, которые во время школьных субботников позволяли детям сдавать в макулатуру книги собраниями сочинений — и не говорили не слова: «Дети все это наблюдают, и скоро вырастет поколение, которое будет без всякого чувства вины считать, что книга — это и есть макулатура. Без задней мысли будут так думать. Без тени сомнения».
Утилизация книг не новая история. Профессионалы книжного дела совершенно спокойно сдают книги на переработку. Любой библиотекарь — жрец, хранитель — уничтожил больше книг, чем самый злонамеренный обыватель. Это нормально. Техническая литература устаревает. Мировая традиция переработки одноразовых томиков в бумажных обложках совершенно естественна, и идея «плохой книги», которая не может рассчитывать на сбережение, в европейской практике не нова: в благотворительном магазине Южного Уэльса в прошлом году выстроили декоративную стену из экземпляров «50 оттенков серого» (роман этот был продан каким-то египетским множеством экземпляров), но оказалось, что разврат и авторская глупость — две вещи несовместные. Не получилось у Эрики Леонард Джеймс тонко развратничать. Книга эта и точно феномен: первый раз в истории цивилизации роман о БДСМ написан будто бы мисс Клак из Уилки Коллинза, бессменной участницей попечительского комитета «по перешиву панталон прогулявшихся отцов в детские штанишки для их невинных сыновей».
Но то, что происходит сейчас с книгами в России, отчасти локальная история. Происходит массовое перемещение большого количества недостаточно востребованных, «перепроизведенных» в свое время (в 1970–1980-е годы речь идет об идеологически заряженном, контролируемом книгоиздательстве, в 1990-е — о бесконтрольном издательском буме) книг из традиционных мест обитания (жилые пространства) в места «дожития». И, как следствие, введение книги в мусорный обиход.
Мусор — это отчуждаемое. Отчуждаемое всегда враждебно. Чем ближе тебе то, что ты отторгаешь, тем быстрее и с большей силой ты должен это вывести в поле неприемлемого. Самая враждебная часть отходов — то, что было частью тебя. Книга своего рода часть тебя. Твоя память, твое взросление, твои первые сентиментальные и чувственные восторги как минимум. Выброшенная, она должна по всей логике мусорного дела стать страшной — как страшны, например, оставленные игрушки. Но книга, идущая на переработку, выглядит жертвой. Лишенная статуса художественной ценности, она приобретает новый — свидетельства и документа.
«Знаете, о чем я мечтаю? — говорил мне Архиреев. — Я мечтаю о небесном экспертном совете. Не в смысле — за пределами жизни, а просто это такая небесная история. Чтобы был такой огромный „Букинист”, в котором каждая книга оценивается экспертами.
Это люди, которые знают и антикварную книгу, и редкие научные издания, как я, но одновременно они с уважением относятся даже к романам Донцовой: потому что есть читатели, которым Донцова нужна, — и пусть она им достается бесплатно. И вот по решению небесных несуществующих букинистов распределяются книги: какие продавать (и за сколько), какие раздавать, какие отправлять на дожитие. Царство книжной справедливости. Я лишь отчасти могу взять на себя такую миссию. Когда мне звонят и говорят: „Тут вот есть пять тысяч книг на продажу. В гараже. Приезжайте”, — у меня волосы на голове шевелятся. Ну что я буду с ними делать? У меня дома две тысячи книг лежит, мне жить скоро будет негде».
