«Я пропустил вторую половину 1990-х, зачитавшись Ришаром Сен-Викторским»
Интервью с переводчиком и писателем Романом Шмараковым
Что читали в вашей семье, когда вы были маленьким? Какие вы любили книжки?
Я научился читать в четыре года. Меня записали в детскую библиотеку, и я ходил туда сам или с мамой. Больше всего мне нравился «Карлсон». Из «Муми-троллей» я любил «Шляпу волшебника», в ту пору это была единственная книжка из серии, которая мне попалась, я нашел ее в библиотеке. Несколько лет назад наконец заказал себе эту книгу. В более поздние годы добавился Леонид Соловьев, «Повесть о Ходже Насреддине». Эти книги я перечитываю и по сей день.
 В 1982 году вышла в сокращенном переводе Муравьева и Кистяковского первая часть «Властелина колец» с большим кольцом на обложке (кажется, в издательстве «Детская литература»). Я вовремя ее застал и к концу седьмого класса знал почти наизусть. Остальные части «Властелина колец» до меня дошли только в начале 1990-х годов, то есть лет десять для меня все это оставалось историей без окончания. «Хоббит, или Туда и обратно», само собой, тогда уже был издан, но именно «Властелин колец» меня особенно поразил. Я до сих пор читаю эту книгу не из намерения узнать, насколько я вырос и насколько глубже стал понимать все эти нетленные вещи, а чтобы наслаждаться прежними радостями. Я не думаю, что вырос из «Карлсона», лишь на том основании, что научился, условно говоря, читать Альберта Великого в оригинале.
В 1982 году вышла в сокращенном переводе Муравьева и Кистяковского первая часть «Властелина колец» с большим кольцом на обложке (кажется, в издательстве «Детская литература»). Я вовремя ее застал и к концу седьмого класса знал почти наизусть. Остальные части «Властелина колец» до меня дошли только в начале 1990-х годов, то есть лет десять для меня все это оставалось историей без окончания. «Хоббит, или Туда и обратно», само собой, тогда уже был издан, но именно «Властелин колец» меня особенно поразил. Я до сих пор читаю эту книгу не из намерения узнать, насколько я вырос и насколько глубже стал понимать все эти нетленные вещи, а чтобы наслаждаться прежними радостями. Я не думаю, что вырос из «Карлсона», лишь на том основании, что научился, условно говоря, читать Альберта Великого в оригинале.
У вас ведь наверняка была домашняя библиотека — кто ее собирал?
Дед, отец и я в третьем поколении. В советское время собирание библиотеки было неким спортом, особенно в провинции, а вся моя жизнь до сорока лет протекла в Туле. Дома были все двести томов «Библиотеки всемирной литературы», купленные еще в пору их выхода. Я сильно их «поюзал» в свои молодые годы. Существенная часть книг, которые я вовремя прочел и по гроб жизни им обязан, именно из этой серии пришли: «Дон Кихот» в переводе Любимова, которого я в отроческие годы намочил на пляже и по нему до сих пор это видно; Апулей, Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка» в переводе Богатырева; Гриммельсгаузен в переводе Морозова; Данте. Я вовсе не хочу сказать, что очень много читал, но несколько важных книг успел прочесть в правильное время.
А в Туле тогда были какие-то специальные библиофильские места?
В Туле в советскую пору имелось некоторое количество книжных магазинов, в которых были отделы обмена. Однажды, в мои подростковые годы, мама нашла хорошую книжку, а в тот момент, в 1980-х годах, надо было выиграть в лотерею, чтобы тебе позволили ее купить, и бедная мама пыталась выиграть, пока наконец продавщица не сжалилась над ней и не продала эту книгу. Вероятно, это было что-то о динозаврах, меня эта тема очень увлекала. Я и сейчас покупаю современную научно-популярную литературу, как русскую, так и английскую. Сегодня с этим стало гораздо проще, а в то время родители прикладывали какие-то невообразимые усилия, чтобы порадовать меня пятым томом «Жизни животных» или чем-то подобным. Сам я в 1980-х был еще мал, но в ту пору, когда вошел в сознательный возраст, проблема была уже не столько в том, чтобы найти книги, сколько в том, чтобы найти деньги. Тогда у букинистов можно было купить какой-нибудь шеститомник Бернарда Шоу за бесценок, я ухватил двухтомник Сильвио Пеллико на итальянском языке, в парижском издании 1835 года, то есть именно то, которое было в библиотеке Пушкина. Даже не знаю, кто это сдавал, — видимо, надо было найти этого человека и напроситься к нему домой. Или немецкие издания латинской классики с параллельными переводами — так я приобрел книгу Апулея «Золотой осел» на латыни с параллельным немецким переводом и «Любовные элегии» Овидия в той же немецкой серии. Кто в Туле все это у себя держал? Я не знаю. Это уже потом в жизнь пришел интернет с сайтами типа alib.ru, на которых можно купить что угодно. За латинской патрологией больше не надо ездить в Москву, ее можно в два щелчка найти на google books.
Кстати, у нас в Туле прекрасная областная библиотека, в которой есть много латинских книжек XVII–XVIII веков, и я замечательно проводил время в некоторых ее отделах. Там я успел прочесть еще одну важную книжку. В самом начале своего студенчества я наткнулся на «Историю упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона, причем это было первое издание в переводе Неведомского 1880-х годов, я сидел в читальном зале и конспектировал его. Как сказал Игорь Иртеньев:
Я в жизни их прочел с десяток,
Похвастать большим не могу,
Но каждой третьей отпечаток
В моем свирепствует мозгу.
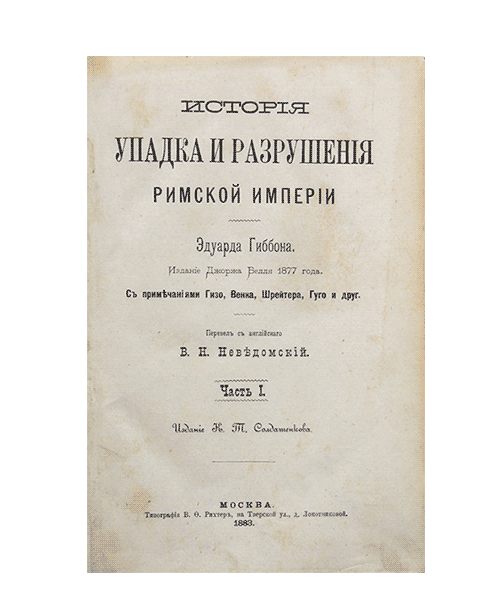 Гиббон до сих пор «в моем свирепствует мозгу»: с моей точки зрения, это идеальный стилист, и я завидую человеку, который с такими способностями нашел себе такую богатую тему.
Гиббон до сих пор «в моем свирепствует мозгу»: с моей точки зрения, это идеальный стилист, и я завидую человеку, который с такими способностями нашел себе такую богатую тему.
В этой библиотеке я уже в 1990-х хорошо попользовался отделом иностранной литературы. Когда дело дошло до систематизации старого фонда, а именно книг семинарий из дореволюционного фонда, я немного в этом помог — переводил титульные листы в латинских книгах XVII века. Там своя специфика: титул на всю страницу, раздельная пагинация, когда через каждые сто страниц нумерация начинается заново. В процессе этой работы мне разрешили пользоваться некоторыми очень полезными книгами, которые широкой публике не были доступны: была там, скажем, симфония [или конкорданс — прим. ред.] на латинскую Библию, где-то в XVII веке изданная, то есть указатель всех словоформ, встречающихся в Вульгате, в алфавитном порядке и с указанием всех библейских пассажей, где это слово встречается. Сейчас, конечно, все это легко найти в интернете. А тогда я начал переводить, в основном ради тренировки в языке, всевозможные средневековые латинские тексты по книгам серии «Латинская патрология» аббата Миня, которая была хороша для своего времени.
Что эта серия собой представляла?
В середине XIX века во Франции Жан-Поль Минь затеял гигантский проект: издать в одной серии все церковные греческие и латинские тексты до Средневековья. Получились две громадные серии — «Патрология латинская», состоящая из 221 тома, из которых последние 4 тома — это указатели, и «Патрология греческая», состоящая из 161 тома.
Там не было никакой текстологической работы, обычно это перепечатка более ранних изданий, добавляющая к прежним ошибкам новые. Но в массе случаев это самое доступное издание того или иного текста, а для многих текстов это самое позднее издание, потому что многие вещи в критическом издании по сию пору не вышли. Во всяком случае, если судить по ее доступности, это самая удачная вещь. Я много ею пользовался, поначалу ездил в Москву, а теперь она у меня вся есть в pdf и никуда ездить не надо.
Я переводил из Миня разные тексты — например, Ришара Сен-Викторского и другие тексты XII века. Латинская часть патрологии доходит до начала XIII века: насколько я помню, там последний персонаж — это Иннокентий III, Папа Римский. Во многом при переводе приходилось полагаться на свою сообразительность, потому что там нет комментария и библейские цитаты в своей массе не идентифицированы — в тексте, где их десять, а отмечена только одна. Поэтому для меня было большим спасением ходить в библиотеку и пользоваться упомянутой выше симфонией.
Какой вы закончили факультет?
Русскую филологию. Кандидатскую диссертацию я писал по Достоевскому, а докторскую — по Клавдию Клавдиану.

А в какие годы вы начали переводить Отцов Церкви?
В 1994 году, после окончания вуза, я остался работать в институте на кафедре литературы. Я учился в аспирантуре, в Москве, у меня было много времени, и я совершенствовал свою латынь такими способами. Этот язык я начал учить еще в студенчестве. У меня было несколько учебников, а за словарем я ходил в библиотеку. Во второй половине 1990-х я пропустил все, что происходило в стране, потому что читал Ришара Сен-Викторского и Алана Лилльского в оригинале с помощью словаря Дворецкого, взятого в областной тульской библиотеке.
Откуда же взялся Достоевский?
Я любил этого писателя, как все продвинутые мальчики в школе. В 9–10 классах я прочел если не все его «великое пятикнижие», то большую часть. Мне страшно хотелось всем этим заниматься — может быть, зря, но никто меня не остановил. Кандидатская моя называлась «Символический подтекст романа „Бесы”», но она слова доброго не стоит, там ничего выдающегося нет.
А почему именно этот роман?
Просто он мне нравился. Работу я писал в Москве, в МПГУ, на кафедре русской литературы. Моим научным руководителем была Евгения Васильевна Николаева, она толстовед. Под ее началом я еще и докторскую писал о Клавдиане.
Как так вышло?
Планида [судьба — прим. ред.] такая, видимо. Работа называлась «Рецепция Клавдиана в русской литературе». Клавдиан — отец-основатель стихотворного панегирика в римской литературе со всеми вытекающими отсюда линиями: торжественная ода XVII–XVIII веков так или иначе растет из него, и русская ода тоже, учитывая, что ее делали хорошие латинисты — Ломоносов, Тредиаковский, Петров. Я показывал на ряде примеров, что там чисто клавдиановское, а что опосредованно, то есть могло пройти, например, через Буало. У Василия Петрова есть чудная вещь под названием «Плач и утешение России», где изображены персонифицированная плачущая Россия после смерти Екатерины Великой и утешающий ее Павел, который ее преображает. Этот сюжет восходит к одной из клавдиановских поэм, а именно «Гильдоновой войне». Та же самая завязка использована в «Россиаде» Хераскова.
А как же пиндаричеcкая ода?
Я подозреваю, что пиндарическая ода была на периферии сознания людей, то есть они, конечно, знали, что она существует и что Буало нам предписывал пиндарическое парение, то есть резкую смену темы — прекрасный беспорядок, но… А где существенные условия нормальной рецепции — кто читал Пиндара? По-русски он вышел в начале XIX века, а Клавдиан — уже в XVIII. И еще, все-таки латынь — язык более распространенный, чем греческий, Клавдиана было проще найти и прочесть человеку со средней образованностью, чем того же Пиндара. А Клавдиан выходил в русских переводах в большом объеме еще в начале 1780-х годов. Я не уверен, что Пиндар сыграл существенную роль для торжественной оды, но у нас нет работ на эту тему. В XVIII веке он влиял на торжественную оду и эпическую поэму отчасти потому, что эпическая поэма у нас специфическая: в ней много панегирического элемента. А дальше у нас о нем вспомнил Брюсов, но, к сожалению, перевел совсем немного и всячески форсил в соцсетях (в смысле в «Русской мысли»). Короче говоря, Клавдиан — клевый. У него богатая фантазия, в том числе касательно разных инфернальных вещей — к нему восходит довольно известный сюжет совета в аду. Мы это видим у Тассо в начале «Освобожденного Иерусалима», когда дьявол выступает перед адской публикой, мы видим это у Мильтона — вся вторая книга «Потерянного рая» занята громадным советом в аду и так далее. Все это восходит к двум сценам у Клавдиана — в «Похищении Прозерпины» и в сцене поэмы «Против Руфина», где изображается совет фурий, когда они возмущаются тем, что на земле настал Золотой век, а император Феодосий их оттуда выселил! Они совещаются, как бы им подгадить этому Золотому веку, есть длинное описание, как на совет собираются разные монстры, живущие в преисподней. Собственно, со времен Вергилия преддверие ада — это место, где живут всевозможные персонификации: олицетворенный раздор, война и т. д. А у Клавдиана их очень много: и старость, и плач, и все на свете — и вот они собираются и беседуют. Сцена такого типа прожила в отечественной словесности долгую жизнь с классицистским эпосом. Когда у нас на Руси вышла последняя эпическая поэма в классицистском духе? Жанр же не умирает просто потому, что уже очень долго живет, — его вытесняют на обочину, но он там продолжает принимать какие-то монструозные формы. Дмитрий Евгеньевич Кашкин в 1836 году выпустил поэму «Александриада», рассказывающую об Александре Первом, и там среди прочего есть сцена, где Наполеону в горящей Москве снится сон, будто он посещает преисподнюю и общается с сатаной. Треш, конечно, редкий, и над поэмой справедливо потешались, но тем не менее мы видим, что сюжет о посещении ада с фигурой сатаны, сидящей на престоле и вещающей грозные речи — у Клавдиана был Плутон в этой функции, — прожил с нашей эпической поэмой всю ее жизнь.

Что еще в поэзии XVIII века восходит к Клавдиану?
Очень многое. Например, Фаэтон как образец наказанной дерзости или реки как свидетели и вестники императорского могущества и апофеоза. Река — символ границы и символ оповещения о славе императора, она несется вдаль, чтобы донести весть. У Клавдиана всего этого много, и это же мы видим у Ломоносова, у Сумарокова, у кого угодно. Очень важен топос Золотого века. Заключенные в преисподнюю фурии и прочие пороки, которые там сами себя грызут, тоже есть едва ли не у всех. Выражение подчиненности со стороны всяческих персонификаций императора, просто императорский апофеоз — это тоже мы видим у Клавдиана в разных местах. Я выделил около десятка сюжетов. Словом, моя докторская была увлекательная.
Дальше я перевел всего Клавдиана, но плохо, потому что я был молодой и глупый человек со стилистическими излишествами. Я решил, что если это типологически соответствует русской торжественной оде XVIII века, то и переводить надо соответствующим языком. Это большая ошибка, потому что для такой работы надо иметь определенный вкус. Сейчас у меня его не прибавилось, но во многих случаях его по крайней мере заменяет осторожность. Этот перевод написан очень тяжелым языком. Тем не менее эта книжка, которую нельзя читать без боли, вышла в 2008 году в издательстве СПбГУ. Но я не оставляю надежды перевести всего Клавдиана заново — «Похищение Прозерпины» уже перевел. В общем, каждые десять лет буду переводить Клавдиана заново.
Расскажите о ваших дальнейших переводческих опытах.
Несколько лет назад я перевел «Илиаду» Иосифа Эксетерского, она вышла в московском издательстве «Водолей». Это очередной англичанин — люди с моих островов все немного сумасшедшие, как у Умберто Эко сказано, — который чуть позже Вальтера Шатильонского, в самом начале 1180-х годов, учась в северной Франции, написал поэму на сюжет Троянской войны. Ведь целостной поэмы о Троянской войне в классической римской поэзии нет, есть кое-что в «Энеиде», кое-что у Овидия, что-то у поздних поэтов, но нигде нет последовательного изложения всей истории. И вот Иосиф взялся за этот предмет и написал поэму, которую обычно называют De bello Troiano, но теперь считают, что она называлась как-то иначе, возможно, «Илиада Дарета Фригийца» — не очень удобное наименование, и поэтому ее часто называют просто «Илиадой». Это объемная поэма, в 3,5 тысячи гекзаметрических строк, где рассказывается вся история Троянской войны по поздним и своеобразным источникам. Дело в том, что в поздней античности появились два фальшивых дневника, якобы написанных участниками Троянской войны: один написал участник со стороны греков, Диктис Критский, второй — участник со стороны троянцев, Дарет Фригиец. Исключительной убогости прозаические тексты. Но эти совершенно глупые дневники на протяжении всего Средневековья и даже до XVI века считались подлинными. Так вот, на основании дневника Дарета Фригийца Иосиф Эксетерский написал поэму о Троянской войне, где изображена не только Троянская война, которую все знают, но еще предшествующий ей поход Геркулеса на Трою, а перед ним еще и поход аргонавтов. Это интересная вещь, очень смелая стилистически.
В Средневековье никогда не знаешь, на что наткнешься. В римской литературе, в общем, когда идешь в какую-то сторону, то хотя бы примерно представляешь, что ты там найдешь. Но когда заходишь в историю латинского эпоса XII века и обнаруживаешь там вещи, выходящие далеко за пределы жанровых конвенций, вплоть до сексуальной сцены между Еленой и Парисом, с описанием позы, с намеком на преждевременное семяизвержение Париса… в общем, не этого я ожидал от людей, создававших латинские поэмы в XII веке.
Когда я перевел «Илиаду», то понял, что ее автор соперничает с Вальтером Шатильонским, который прославился в этом жанре несколькими годами раньше. Поэтому я решил перевести и его, надеюсь издать их вместе. Это красивая пара, которая за несколько лет восполнила два важных пробела в латинской эпике: они написали об Александре Македонском и о Троянской войне.
 Папа Римский Пий II. Фото: photogallerys.ru
Папа Римский Пий II. Фото: photogallerys.ruЕсть еще возрожденческая латинская литература, там тоже много интересного — например, отличная проза Папы Римского Пия II. Я перевел его текст «История о двух влюбленных», который был опубликован в журнале «Носорог». Это такой чудный эротический роман — можно сказать, с некоторыми оговорками, что это боккаччиевская новелла, изложенная отличной латинской прозой. Пий II чуть ли не единственный Папа Римский, написавший автобиографию во время своего понтификата. Эта биография — объемная, в тринадцати книгах — очень увлекательна, сейчас ее издают в известной книжной серии I Tatti, которую Гарвардский университет выпускает, и я подумываю ее перевести, если доживу до окончания этого издания: пока вышли только первые семь книг.
C Олегом Сергеевичем Воскобойниковым мы издали «Шартрскую школу» [«Горький» брал у Воскобойникова интервью по поводу этого издания. — Прим. ред.]. Мы молодцы. Когда я был молод, невежествен и знал о Шартрской школе даже не из вторых, а из третьих рук, я думал: какой интересный человек Алан Лилльский и какая интересная у него вещь «Плач Природы», хорошо бы ее перевести. Прошло двадцать лет, и я во всеоружии всевозможных книжек его перевел; у меня под рукой было три или четыре французских и английских перевода, не считая комментариев. Это история не о том, как сбылась красивая мечта провинциального мальчика, а о том, что за эти двадцать лет никто не перешел мне дорогу, при том что все знают важность Шартрской школы вообще и Алана Лилльского в частности. В той сфере, где мы со своими способостями подвизаемся, все течет очень медленно, куда ни ткни пальцем — везде можно начинать переводить практически с пустого места. Я не говорю о римской классике, но даже и там пробелы изумительные: у нас ведь, я так понимаю, нет, например, полного перевода Цицерона, нет Плиния Старшего, а уж Средние века и Возрождение — куда глаза упали, там можно и начинать работу.
 Алан Лилльский. Ксилография. Фото: public domain
Алан Лилльский. Ксилография. Фото: public domainМы с Олегом Сергеевичем переводили Шартрскую школу параллельно и в какой-то момент решили, что надо объединить усилия и сделать сборник. А еще сейчас мы сделали Вальтера Мапа (и, надеюсь, не последний раз поработали вместе). Мап — английский писатель XII века, о котором русский читатель знал только из антологий, кусочками и в очень свободном переводе. Он родился где-то на валлийских рубежах, делал придворную карьеру во времена Генриха II; это был образованный придворный, блестящий светский человек, и он оставил после себя книжку, которая называется «Забавы придворных». Она дошла до нас в единственной рукописи и впервые была опубликована в середине XIX века, а до этого Мапу приписывали совершенно другие тексты, он считался поэтом-вагантом, человеком, приложившим руку к романам Артуровского цикла и так далее. Теперь у него всю эту поэзию поотбирали, спасибо ученым людям и их усердию, зато «Забавы придворных» все компенсируют.
Я перевел большой сборник историй, которые Мап, видимо, рассказывал другим придворным (поэтому люди, относящиеся к Мапу с ноткой пренебрежения, и называют его книгу сборником застольных разговоров, table-talk). Они очень разные по размеру, по тематике, по тону. Начиная от анекдотов, за которые его любят фольклористы, — например, о том, как один мужик похоронил жену, а через год ночью он встретил ее танцующей на лугу в компании каких-то женщин, вытянул оттуда, увел домой, прожил с нею еще двадцать лет, прижил с ней детей. Или истории о вампирах, о ходячих мертвецах (в конце XII века это тоже была модная тема), о человеке-рыбе. Или цикл новелл на сюжеты рыцарских романов — он же современник Кретьена де Труа, и весьма вероятно, что они были знакомы. Или длинное изложение английской истории XI–XII века, скорее даже квазиистории, с удивительными, поражающими исследователей деформациями, — то есть он, мягко говоря, очень сильно искажает прошлое, даже недавнее, и не всегда понятно зачем. Есть у него в этом историческом разделе отличный рассказ о предсмертном сне Вильгельма Рыжего. Тому перед смертью приснилось, как он занимается каннибализмом в церкви посреди леса, а некий епископ толкует этот сон как дурное знаменье, предвестье гнева Божия за все его грехи, что и сбылось в итоге, Вильгельм в тот же день погиб на охоте. Мап — отличный стилист, местами мастер черного юмора, близкого современному читателю. Кстати, в начале XX века его снабдил переводом и издал не кто-нибудь, а знаменитый М. Р. Джеймс, который сам был мастером готической новеллы, их любят сравнивать. Мне давно хотелось Мапа перевести, и наконец я до него добрался.
Когда он должен выйти?
Не раньше, чем через полтора-два года. Да, Вальтер Мап очень хорош, это то, что я бы сам хотел делать, если бы, как говорил Пьер Безухов, я был не я, а нормальный писатель.
Еще есть мечта перевести «Утешение философией» Боэция. Я уже за него взялся, и выяснилось, что это не так страшно, как казалось, особенно если иметь под рукой 3–4 европейских перевода и хорошие комментарии. Еще очень хочется перевести «Римскую историю» Аммиана Марцеллина, но она объемная — это года на три. Надеюсь, я успею это сделать. Существующий русский перевод его скучноват: Аммиан — барочный автор, а в этом переводе его от Светония не отличишь.
Трактат Аделярда Батского «О тождественном и различном» я как-то перевел, раньше думал, что он есть на русском, а оказалось, что нет. Дело в том, что в нашем с Олегом Сергеевичем Воскобойниковым любимом XII веке этот боэциевский жанр — философский диалог с чередованием стихов и прозы, с участием какой-нибудь персонифицированной фигуры (Философия, Природа и тому подобное), часто от первого лица написанный, — вдруг снова ожил. Долго ничего не было, и вдруг мы получаем за столетие пять полноценных произведений в такой форме. Два из них уже мы перевели для «Шартрской школы»: Олег Сергеевич — «Космографию» Бернарда Сильвестра, а я — «Плач природы» Алана Лилльского. Остальные три тоже хороши — не бросать же их, и я перевел Аделярда Батского, у которого Философия беседует с Филокосмией (то есть «любовью к миру»), склоняя Аделярда на разные пути: одна — к забавам, а другая — к суровым научным трудам. А в кульминационные моменты разговора они друг друга ругают в стихах. Причем для Аделярда эта любовь к мудрости означала не просто тихие занятия в тихом углу: он совершал сногсшибательные образовательные путешествия по Европе и Азии, и это в начале XII века, буквально по горячим следам Первого крестового похода! Его можно считать пионером интеллектуального движения этого столетия. В общем, я это перевел, немного откомментировал, и сейчас в нашем «вышкинском» журнале по философии текст был опубликован.
Есть ли у вас долгосрочные переводческие планы?
 Роман Шмараков с енотом. Фото: личная страница в facebook
Роман Шмараков с енотом. Фото: личная страница в facebookВот переведу Боэция… У меня есть некоторый план-минимум, и в него входит, помимо Боэция, «Александреида» Вальтера Шатильонского. Это, опять же, XII век. Человек, хорошо осведомленный в латинской классике, заметил, что в римском эпосе нет поэмы об Александре Македонском, и решил восполнить эту лакуну. Он написал эпическую поэму с намерением рассказать «чистую правду», то есть если люди Средневековья знали об Александре Македонском по всяким фантастическим вещам вроде «Романа об Александре» Псевдо-Каллисфена (современная отечественная публика знает такой род историй об Александре по блестящей повести Михаила Кузмина «Подвиги Великого Александра»), то Вальтер Шатильонский берет за основу «Историю Александра Македонского» Курция Руфа, которая на фоне всех тех легенд, что об Александре ходили, действительно выглядит прямо цветком исторической достоверности. Однако у Вальтера все опять заканчивается сценой в аду — спасибо Клавдиану, — где беседуют персонифицированная природа с Левиафаном, то есть сатаной, на тему, как бы им убить Александра, потому что он переходит все человеческие границы. Сатана говорит о пророчестве, которое повествует о том, что придет человек и одолеет его, — не Александр ли это? Мы-то понимаем, что речь идет о Христе, но сатана этого не знает. Вот они и выбрали эту ложную цель и убили Александра. Это прекрасная поэма — пять с лишним тысяч строк. Она сразу стала школьной, по ней преподавали, но целиком на русский язык она не переводилась.