«Я неплохо обхожусь без современной литературы»
Читательская биография историка архитектуры Александры Селивановой
Книжно-биографические интервью мы обычно начинаем со стандартного вопроса о детском чтении.
Мне очень повезло: в детстве у меня была большая семья — прабабушка, бабушки и дедушки, — и у всех свои библиотеки. Уже где-то в три года бабушка научила меня читать: она пела со мной текст, и выходило очень забавно. Так я и пропала — превратилась в поглотителя книг и оставалась им лет до семнадцати. В наших классических семейных библиотеках с собраниями сочинений была и хорошая детская литература, и, конечно, разнообразные книги по искусству. Я очень любила художественные альбомы, с некоторыми из них буквально росла, и они меня сформировали. Одна из таких важных для меня книг — «Авангард, остановленный на бегу»: в то время я понятия не имела о том, что в ней воспроизведены работы из известного Нукусского музея. Мне очень нравились журналы «Домус» 1970–1980-х, благодаря которым я заинтересовалась архитектурой, и прабабушкины журналы L’Art et Decoration. Ну и, конечно, я в огромных количествах читала детскую литературу, сказки народов мира, книжки по мифологии. Я увлекалась античностью, потом Древним Египтом — практически жила в этом мире. Потом, в подростковом возрасте, пошла скандинавская мифология — «Старшая Эдда», «Беовульф», — и я даже пыталась что-то писать, отталкиваясь от мифологических сюжетов. Но, пожалуй, главная книжка моего детства — «Алиса в стране чудес» с иллюстрациями Калиновского. Именно это издание я очень любила, копировала оттуда графику, и потом это переросло в самостоятельные сюжеты. А в возрасте десяти-одиннадцати лет большую роль сыграл гениальный журнал «Трамвай»: благодаря ему я открыла для себя обэриутов.
А самиздатом родственники интересовались?
В первую очередь бабушки с дедушкой. Но было много такого, что трудно назвать самиздатом в полном смысле слова: самодельные переплетенные книги, хорошая литература, публиковавшаяся в толстых журналах, но не выходившая отдельными изданиями. Такие книги всегда пахли специфически — мучным клеем. Их было много, но вручную переписанных или перепечатанных на машинке — нет. Позже у меня появились отксерокопированные книги: Булгаков, «Культура два» Паперного (я не могла до нее добраться, а мне позарез было нужно).
Существенно ли изменилось ваше чтение в подростковом возрасте?
В то время литература стала для меня настоящим бегством от действительности. Я рисовала и жила в каком-то параллельном измерении, а книжки были важным материалом для пережевывания и осмысления. От увлечения мифологией я в четырнадцать лет плавно перешла к Толкину: «Хоббит» показался слишком простым, другое дело — «Властелин колец» и «Сильмариллион» в оригинале. Потом у меня начался период Кафки, Гессе и особенно Борхеса, Маркеса и прочих латиноамериканцев. Маркеса я читала в виде переплетенной журнальной публикации (кажется, из «Иностранной литературы» 1970-х годов). Помню ощущение от этой книги: пожелтевшая бумага, вытянутый по вертикали формат и сплошной слепой текст. Маркесу это подходило идеально, потому что было полное ощущение, что ты проваливаешься в пахнущую бумагой желтую магическую среду. И дальше начался большой период, связанный с Булгаковым, огромный кусок моей жизни, при том что роман «Мастер и Маргарита» любимым я никогда не считала (столкнувшись с этой книгой впервые, я прочитала первую главу и бросила), зато меня очень тронули «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Дьяволиада» и другие его произведения. Когда я наконец прочитала «Мастера и Маргариту», эта книга разделилась на главы, которые я люблю и которые терпеть не могу.
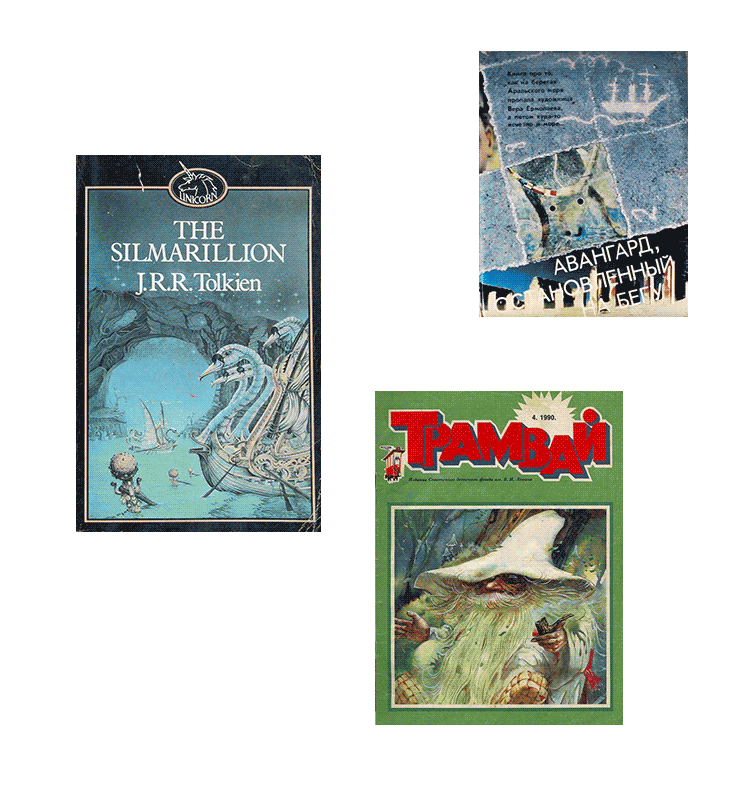
Любите московские?
Естественно. Мне всегда нравилось у Булгакова все странное, сатирическое и, конечно, то, как он описывает город: бегство Бездомного или полет Маргариты — все казалось абсолютно живым. Лет в шестнадцать это производило сильное впечатление, поэтому дипломный проект в художественной школе я защитила на тему «Музей Булгакова», а потом пришла с ним в Нехорошую квартиру (тогда там находился булгаковский фонд).
Насколько я понимаю, вы стояли у самых истоков музея?
Да, можно и так сказать. Я пришла туда в 1997 году, а музей открылся в 2007-м. Диплом я готовила, ориентируясь на тотальную инсталляцию Музея Маяковского: комнаты символизировали разные части романа, кухня была квинтэссенцией дьявольского пространства и так далее — причем я знала о планировке квартиры только по книжке Паршина «13 загадок Михаила Булгакова» и думала, что там четыре или пять комнат, однако в самой квартире обнаружила, что их гораздо больше. Сделать музей тогда было невозможно, но мне предложили заниматься выставками, и так началась эпопея, растянувшаяся на целых тринадцать лет. Надо было писать книгу об этом месте: я обнаружила в Нехорошей квартире невероятную концентрацию абсолютно булгаковских историй, сюжетов и людей и постоянно сталкивалась с персонажами Булгакова.
Расскажите, как это было.
Представьте себе ежедневный карнавал из разных людей, которые появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Они приходили, делали проекты и потом испарялись, не оставляя после себя ничего. В конце 1990-х в Нехорошей квартире были удивительные сотрудники — например, невероятная женщина по имени Элла. Почти Гелла, и выглядела она действительно как героиня книги: с черным каре, стрелками до висков и в мини-юбке. В таком виде она встречала гостей, женщина из другого мира. Наш финансовый директор тоже был с особенностями: он мог смотреть только в угол, мимо собеседника. На дверях комнат иногда появлялись записки типа «Идет сеанс медитации для взрослых», приходили кришнаиты, делавшие огромные фанерные инсталляции с битлами или выставки на тему экологии, которые посещал Эдуард Лимонов. Много лет существовало рок-кабаре Алексея Дидурова, к нему приходили какие-то странные поэты и художники. Режиссер Артур Аристакисян с компанией называли себя «Чудотворцами» — они заняли одну из комнат квартиры, провели туда телефон, покрасили плинтус и дверь в ярко-желтый цвет и сказали мне, что планируют проводить кинопоказы, а в качестве мебели собираются использовать мешки с крупой. После этого они повесили на дверь замок и исчезли. Таких историй в конце 1990-х — начале 2000-х было много, и все это сопровождалось жестокими боями с соседями, обитателями коммуналок, потому что они ненавидели Булгакова и всех, кто приходил в эту квартиру. Происходили самые невероятные вещи: заваривали дверь в музей, просверливали дырки с чердака в квартиру и лили туда алкоголь. Случались пожары и скандалы. Это была очень сильная нелюбовь, и жильцы дома тоже удивительным образом сохраняли черты булгаковских персонажей. Конечно, все дело в наследии более ранней эпохи: в 1980–1990-е годы, когда еще нельзя было попасть в квартиру, поклонники Булгакова проводили время в подъезде, расписали всю лестницу, превратив ее в палимпсест из булгаковских цитат. Там играли на гитаре, пели, курили разное (расширяющее сознание) и так далее. Это, конечно, вызывало много негатива, поэтому, когда появился музей, плохое отношение по инерции перешло на нас.
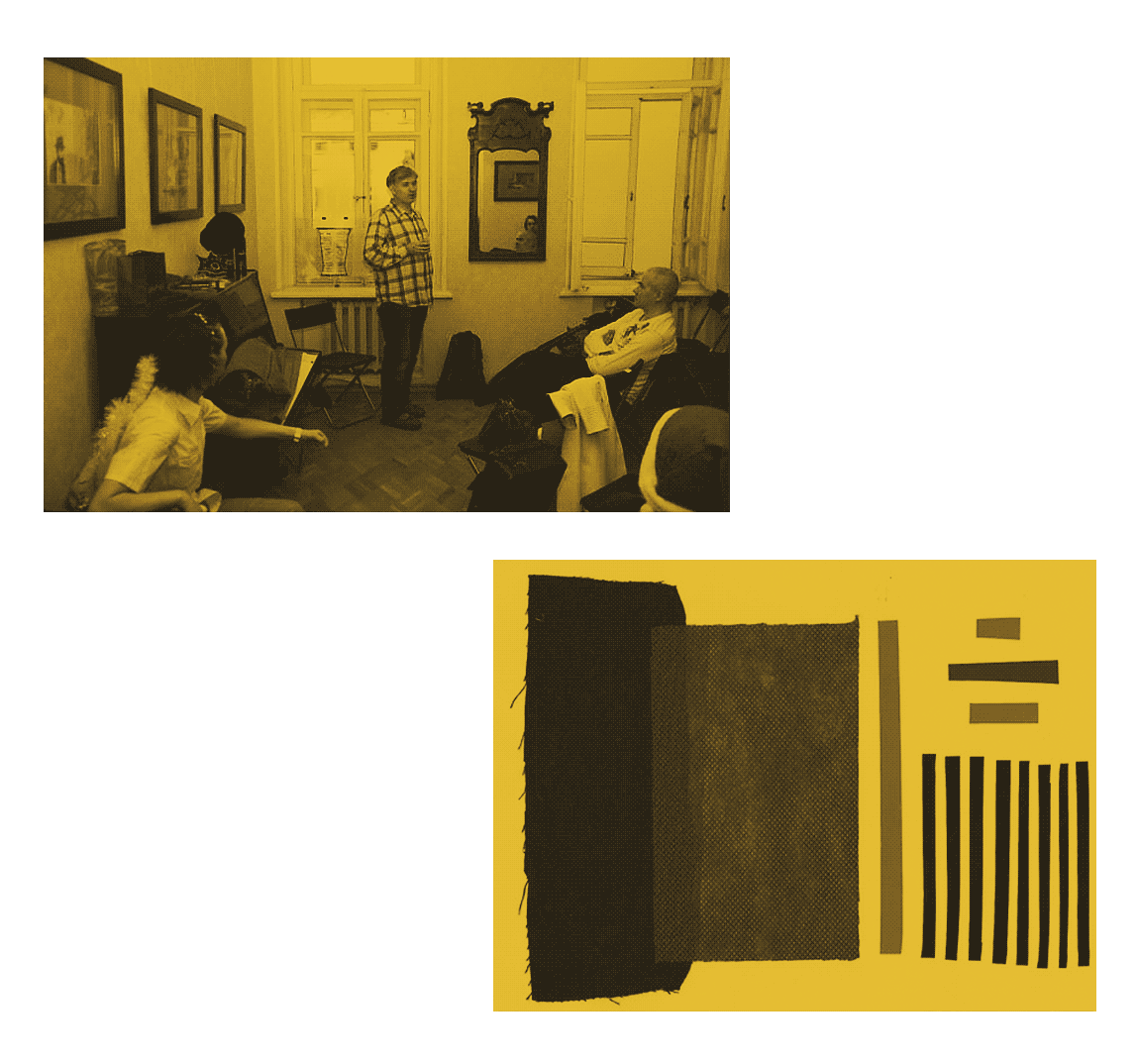
Фото: vk.com/club3060504
Вот в такой атмосфере абсолютного безостановочного безумия я делала выставки и довольно долго жила — и мне это очень нравилось. В первую очередь я любила сам дом, он для меня стал квинтэссенцией старой Москвы. Дмитрий Опарин недавно выпустил книгу про Садовую, 10 [адрес дома, в котором располагается Музей Булгакова. — Прим. ред.], и моя мечта сбылась. Я бредила этим домом много лет, он мне снился, я его рисовала, с ним происходили в моем сознании очень странные метаморфозы. Я воспринимала его как живое существо.
Кто еще из писателей значим для вас?
До сих пор одна из ключевых фигур для меня Платонов, абсолютно загадочный писатель — я с трудом понимаю, как он создавал такие тексты, и этим он страшно цепляет и интригует. Я много лет мечтаю сделать передвижной музей Платонова. Вообще я вечно придумываю музеи любимых авторов — кроме него и Булгакова, еще Хармса, например. И я не теряю надежды когда-нибудь воплотить в жизнь платоновскую историю.
В литературе 1920-30-х мне как раз нравится эта червоточина, перевернутость мира, с ним происходит что-то не то, но на самом деле, «не то» происходило в реальности. И это хорошо зафиксировано в литературе, собственно, в булгаковской «Дьяволиаде» или платоновских текстах, у Заболоцкого или Олейникова. Недавно на меня очень сильное впечатление произвела книжка, купленная в питерском «Букинисте»: «Художник неизвестен» Каверина 1931 года. Для меня это настоящее открытие, я не знала, что Каверин писал что-то авангардное в те годы. Это вещь удивительным образом созвучна изобразительному искусству того времени, с жутковатым чупятовским Ленинградом, увиденным глазами художника, плюс мощная примесь ОБЭРИУ, которые даже упоминаются в тексте. Я понимаю, что этот пласт огромен, и его еще предстоит открывать.
В прошлом году я делала с Надей Плунгян выставку «Сюрреализм в стране большевиков», и столкнулась с текстами Павла Зальцмана, которые мне были незнакомы до этого. К тому времени я уже знала о Геннадии Горе. Это все новые для меня слои, я понимаю, что эта ленинградская литературная история почти канула, была уничтожена репрессиями и Блокадой, но что-то всплывает периодически и мне еще предстоит прочесть очень много поразительных текстов.
А из поэзии?
Надо сказать, что я вообще не очень люблю стихи, и поэзию воспринимаю плохо, но есть несколько авторов, которых я действительно нежно люблю, это Мандельштам и Бродский. Бродского вот я открыла довольно поздно, мне было около 18 лет. И того, и другого я очень четко воспринимаю через цвет, вкус, запах. Они для меня — это Ленинград, как он есть (Бродский в первую очередь ранний). В 20–22 столкнулась с Всеволодом Некрасовым, Холиным и их кругом, Приговым. Вот Некрасова и Бродского я перечитываю довольно часто.
Наверное, для вас в юности было важно слово звучащее, я имею в виду русский рок с его акцентом на тексты, «Аквариум», например.
Прямо в точку. Естественно, я не могла пройти мимо ленинградского рока, и какой-то большой кусок моей жизни, начиная лет с пятнадцати и до 23-24-х, я в огромных количествах все это слушала. В первую очередь, «Аквариум», Майк, потом появился Курехин. Тексты Гребенщикова на меня действительно очень повлияли. Я помню, что первый альбом, который я купила, был «Лилит», он только вышел тогда.
Вы по-прежнему довольно часто делаете выставки на литературные сюжеты.
Музейное прошлое наложило отпечаток на мою дальнейшую работу. Надо сказать, что я, решая куда поступать, выбирала между архитектурным институтом и филфаком. В Музее Булгакова я организовала и провела более сорока разных выставок, в том числе связанных с текстами. Пожалуй, самая любимая из них — «Les Reminiscences», она была посвящена детским воспоминаниям интеллигенции начала ХХ века. Каждое воспоминание пряталось в предметах мебели: в буфетах, комодах, сундуках. Из более поздних моих литературных выставок стоит отметить проект «Булгаков vs. Маяковский», об отношениях двух писателей. Сюжетной основой для нее послужила знаменитая игра в бильярд (известно, что Булгаков и Маяковский играли в Клубе работников искусств). Бильярд — метафора, и каждый удар — определенный аспект несхожих мировоззрений двух авторов: отношение к самопозиционированию, дому, миру, публике, власти, смерти, женщинам, театру. Всего было девять таких «ударов», представленных текстами, фотографиями и личными вещами, и собрать их было очень непросто, потому что у Маяковского сохранилось почти все (Брики все сохранили), а от Булгакова почти ничего не осталось. Пришлось по крупицам отыскивать экспонаты в самых разных музеях. Герои выставки, конечно, были в очень неравной ситуации, но в результате сюжет удалось выстроить в том числе за счет этого контраста.

Одна из книг, представленных на выставке «Конструктивизм — детям»
Фото: nkj.ru
Потом была выставка «Конструктивизм детям», об истории детской книги эпохи авангарда, организованная совместно с Российской государственной детской библиотекой. Я убеждена в том, что детские книги 1920-х годов — недостижимая вершина, даже если речь идет о малоизвестных авторах. Понятно, что были известные Введенский, Хармс, Маршак, Ильин, Житков, но параллельно с ними работала еще тьма авторов, о которых мы почти ничего не знаем, хотя их тексты зачастую ничуть не хуже. Книги тогда делали иронично, живо, авторы на равных общались с ребенком, а издания их были настоящими художественными объектами. Когда художник полностью погружен в текст, он делает не иллюстрации, он делает книгу в целом. Для художников занятия детской книгой не были неким убежищем и легким заработком: мне кажется, они работали очень искренне и увлеченно, будь то Алиса Порет, Вера Ермолаева или Александр Дейнека. Ведь в то время многие считали, что именно детская книга формирует сознание «нового человека».
И, наконец, текущая выставка — «Универсальный ответ записочникам» — проект, посвященный 125-летию Маяковского. Выставка на самом деле не столько о самом поэте, сколько об обществе 1920-х годов и о том, как Маяковского тогда воспринимали. У Маяковского был очень современный подход к продвижению своего творчества: он вел себя как звезды в наше время, постоянно ездил по всей стране с выступлениями (никто этого не делал в таких количествах, как он). Маяковскому было важно «собирать стадионы» — разве что шестидесятники потом еще делали что-то похожее.
Недаром он был для них такой важной фигурой.
Конечно, в какой-то степени это вернулось. Маяковский действительно стремился, чтобы его услышали напрямую и поняли. Поэтому все выступления строились как театральные — по сути, это был перформанс: обсуждалась какая-то острая тема, причем Маяковский всегда очень изобретательно намекал в афишах, о чем пойдет речь. Обязательной частью каждого выступления был ответ на записки — увлекательнейшая часть программы, потому что поэт был остер на язык, люди из зала тоже упражнялись в остроумии и пытались как-нибудь его подковырнуть, Маяковский все это собирал. После каждого выступления он складывал записки в конверт, подписывал дату, место выступления, перед кем выступал, и в таком виде, по его собственным словам, он собрал двадцать тысяч записок. В музее сохранилось семь тысяч, но это действительно много. Поскольку многие записки повторялись, мы хотели показать, на какие категории делились спрашивающие и что их волновало.
Роман Давидович Тименчик исследовал читательскую аудиторию Гумилева, но там был другой материал, а есть ли какие-то работы о Маяковском и нет ли у вас желания написать об этом?
Судя по всему, таких исследований о Маяковском нет, потому что большая часть этих материалов выставлена и введена в научный оборот впервые. Черновые тетради будущей книги «Универсальный ответ записочникам» никогда не выставлялись. Даже анализ, какие записки он отобрал для будущей книги, не проводился. Это очень интересно, потому что Маяковский не отбирал литературные профессиональные вопросы, он брал любые записки, даже связанные с его внешним видом или со стоимостью билетов. В сущности, он сделал выборку, показывающую весь диапазон вопросов. В некоторых местах вписаны комментарии, но они сделаны разными почерками, мы предполагаем, что это лежало у Бриков, и самые разные гости могли что-то вписывать. В одной из записок написано «Вопрос задавал сволочь», а кто-то подписал: «Правильно». То есть это была какая-то настольная книга для комментариев. Так что, конечно, это огромный материал для исследователей, и мы бы очень хотели написать книгу по итогам выставки, я надеюсь, что у нас будет эта возможность. Для самой выставки мы привлекли значительное количество социологов, историков, антропологов, которые написали небольшие справки о каждом социальном типе, Марина Краснова написала об отношении Маяковского к каждому из них. Я надеюсь, если мы будем делать книгу, то сможем, во-первых, опубликовать какую-то часть записок с комментариями и опубликовать эти тексты, это будет какая-то первая попытка на эту тему как-товысказаться.
А каковы ваши книжные интересы сегодня?
Сейчас меня в первую очередь интересуют книги по культурологии и истории. Моя библиотека в значительной степени состоит из исследований, вышедших в последние десять–пятнадцать лет и связанных с эпохой 1920–1930-х.
Есть любимые?
Одна из первых книг такого рода, которая произвела на меня сильное впечатление и очень мне помогла, — «Вокзал-Гараж-Ангар: Набоков и поэтика русского урбанизма» Юрия Левинга. Блестящая, на мой взгляд, книга, там про урбанизм гораздо больше, чем про Набокова (которого я, кстати, не люблю). Левинг использует близкий мне подход: он анализирует текст, рассматривая попутно примеры из других областей культуры — кино, повседневность, живопись, графика. «Культура два» Паперного, конечно, очень на меня повлияла в свое время. Сейчас я уже со многим в ней готова спорить, но сам его принцип изучения архитектуры мне очень близок. Я сейчас готовлю книгу про постконструктивизм в СССР и отчасти полемизирую с «Культурой два». Очень понравилось исследование Александра Рожкова, посвященное студентам и молодежи 1920-х, — «В кругу сверстников» (то же самое относится, конечно, ко всей серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение»). Сейчас читаю книгу «Дальше — шум» Алекса Росса, в которой музыкальная история ХХ века довольно ловко, как мне кажется, помещена в политический и художественный контексты. Последние лет пять я много читаю периодики — например, стараюсь всегда покупать любимый журнал Rigas Laiks.

В каждом его номере можно прочесть свеженькое интервью с Александром Пятигорским.
Да-да, свеженькое, которому десять лет минимум — обожаю их за это, они чудесные. Вообще времени для чтения теперь очень мало: у меня этот процесс всегда был связан с транспортом, мне нравится читать, когда все вокруг грохочет и шумит. С тех пор, как я переехала ближе к центру, времени на чтение у меня крайне мало.
А что насчет современной литературы?
Я в этом смысле абсолютно безнадежна. Недавно я перечитывала «День опричника»: словно бы пришло время перечитать эту книгу, чем-то таким повеяло. А так у меня в голове все занято моими историями, я не могу вместить туда еще и чужие. В общем, я неплохо обхожусь без современной литературы.
Из художественного мне сейчас нравятся малоизвестные романы 1930-х, производственные и непроизводственные. Тогда еще шли поиски формы, работала идея литература факта, продолжались эксперименты со структурой и языком. Большим открытием в свое время стал для меня роман Глеба Алексеева «Роза ветров» (1933 год), посвященный строительству сталиногорского химического комбината (Сталиногорск — бывший город Бобрики).
Вы ведь занимались Бобриками?
Да, я занималась ими как историк архитектуры — на меня произвело огромное впечатление, что где-то у истоков Дона, практически в болотах, в полях и лесах, в усадьбе графов Бобринских планировалось построить самый большой в Европе химический комбинат. Чистое безумие! Туда, естественно, отправили художников, чтобы писать портреты передовиков производства, и туда же поехал Глеб Алексеев, писатель и журналист, на тот момент уже автор романа о поисках библиотеки Ивана Грозного. В «Розе ветров» много по-хорошему безумных страниц. Например, душераздирающая сцена вскрытия склепа семьи Бобринских: девушки отрывают обивку гробов себе на платья и обсуждают личную жизнь графов. Это коллажный роман, в текст вставлены какие-то газетные статьи, есть любовная линия, производственная линия, есть драма, есть метафизика — в общем, хороший замес. Я после этого стала охотиться за книгами того же плана, у букинистов всегда пытаюсь что-нибудь такое найти. В забытых произведениях можно обнаружить много любопытного — и здорово, что сейчас пошла волна переизданий подобных книг. Это действительно очень ценно.