«Я не более одинок, чем одиноко растущий коровяк»
Генри Дэвид Торо: аскет или лицемер?
Ровно два века назад родился Генри Дэвид Торо — американский мыслитель, общественный деятель и натуралист, вошедший в историю благодаря автобиографической книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854). «Горький» постарался разобраться, что не так с главным произведением Торо, читал ли он Платона и куда сбегал после работы на огороде.
«Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни — она слишком драгоценна для этого; не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины, хотел жить со спартанской простотой, изгнав из жизни все, что не является настоящей жизнью, сделать в ней широкий прокос, чисто снять с нее стружку, загнать жизнь в угол и свести ее к простейшим ее формам, и если она окажется ничтожной, — ну что ж, тогда постичь все ее ничтожество и возвестить о том миру; а если она окажется исполненной высокого смысла, то познать это на собственном опыте и правдиво рассказать об этом в следующем моем сочинении».
Торо довольно противоречивая фигура. За два столетия уолденский затворник оброс множеством полярных оценок: от сурового эссе Стивенсона («Торо сух, самодоволен и эгоистичен»), которое тем ценнее, что автор «Острова сокровищ» был явным его поклонником, до апологии от Апдайка («Торо — настолько пылкий бунтарь, полный чудак и святой отшельник, что его книга рискует стать такой же почитаемой и нечитаемой, как Библия»). Порой можно услышать, что при жизни его-де не читали, не ценили и вытащили из забвения только на фоне «Лета любви» и «Красного мая» — это полная чушь: вышедший в начале августа 1854 года «Уолден» к концу месяца отрецензировали более чем в тридцати изданиях, большая часть отзывов хвалебные, и со временем популярность романа только росла. Что, в общем, немудрено: не так уж и богат XIX век киническими и анархистскими отповедями.
Не забыт Торо и сегодня: The Boston Globe пишет, как родной город писателя готовится к его двухсотлетию, NPR интересуется его диетой, The New York Times оценивает вклад в защиту дикой природы, а The Washington Post, Chicago Tribune и The Seattle Times рецензируют изданную к юбилею новую биографию. Может показаться, что пророчество Апдайка сбылось и Торо теперь служит забронзовевшим нравственным ориентиром, которого почитают и не читают, — но не тут-то было. Два года назад New Yorker спровоцировал образцовую полемику своей статьей с эпатажным заголовком Pond Scum. В прямом смысле pond scum — ряска или тина на поверхности водоема, в переносном — мразь (как сообщает Urban Dictionary, «человек без принципов и морали»), а учитывая контекст — мразь с пруда. Интригующий образ автора, вошедшего в канон американской классики! Ответ не заставил себя ждать: на следующий день (можно ли представить такую оперативность в рунете по поводу автора XIX века?) The Atlantic публикует текст «В защиту Торо», через день The Boston Globe — «Извини, „Нью-Йоркер”, но Торо актуальнее, чем когда бы то ни было», а The New Republic — «Все ненавидят Генри» (последняя статья в силу искрометности, пожалуй, заслуживает наибольшего внимания: «Что ж, он то любил поезда, то не любил. Мое отношение к авиаперелетам и iPhone настолько же противоречивое»).
В вину предвестнику зеленого анархизма New Yorker вменил многое, но почти все линии критики не то чтобы мимо кассы, но, как минимум, странного толка. Дескать, учить других уму-разуму взялся завзятый мизантроп. Но ведь Торо и не скрывает: да, он «унылый мизантроп», который «очень мало занимался филантропией», — ведь именно из-за нее «добросердечные дядюшки и тетушки человечества ценятся выше его подлинных духовных отцов и матерей». Эту важную инвективу против благотворительности в конце первой главы он резюмирует так: «Я не хочу умалять заслуги филантропов, я лишь требую справедливости в отношении тех, кто благодетельствует человечеству самой своей жизнью и трудом».
Упрекая Торо в моральной близорукости, автор New Yorker негодует: «Вероятно, самое странное и грустное в „Уолдене” — что книга о том, как жить, не говорит ничего о том, как жить с другими людьми». Вероятно, это самый странный упрек в адрес «Уолдена». Разумеется, в «Уолдене» нет рецепта общинной жизни — и было бы крайней неожиданностью его там вдруг встретить. Потому что это книга не о том, как сожительствовать, а о том, как ужиться хотя бы с самим собой. Именно поэтому те пассажи, где говорится об обществе, рассказывают об ограничениях, которые оно накладывает на своих членов: «Людское общество обычно чересчур доступно. Мы встречаемся слишком часто, не успевая приобрести друг для друга новой ценности. Мы трижды в день сходимся за столом и угощаем друг друга каждый раз все тем же старым заплесневелым сыром — нашей собственной особой. Чтобы сделать терпимыми эти частые встречи, нам пришлось договориться о некоторых правилах, именуемых приличиями и этикетом, которые не дают нам вступить в бой». Если бы Торо пытался разобраться, как жить с другими, — тогда, наверное, написал бы не «Уолден, или Жизнь в лесу», а «Конкорд, или Жизнь в городе».
Или: Торо якобы «считал, что его интуиции и откровения важнее, чем у других людей». Здесь автор New Yorker ссылается на рассуждение, где тот занимает «позу пророка»: «Иногда, сравнивая себя с другими, я вижу, что боги щедрее оделили меня, по-видимому, больше, чем я заслуживаю. Я нахожусь под особым их покровительством, и мне обеспечено многое, чего не имеют другие люди». Вероятно, это должно служить свидетельством спеси Торо, но вообще-то спустя несколько предложений эта щедрость богов объясняется: «Мне было неприятно оказаться одному. Но я чувствовал, что это было болезненное состояние, и уже предвидел, что оно пройдет. Среди этих мыслей, под шум тихого дождя, я внезапно ощутил — в падении дождевых капель, в каждом звуке и каждом предмете вокруг дома — нечто бесконечно дружественное, и это меня поддержало». Собственно, эта глава называется «Одиночество», и склонность не чувствовать себя одиноко в уединении — это и есть дар богов, о котором идет речь. Если пророк говорит: «Я не более одинок, чем одиноко растущий коровяк, или луговой одуванчик, или листок гороха, или щавеля, или слепень, или шмель» — возможно, это тот пророк, к которому стоит прислушаться.
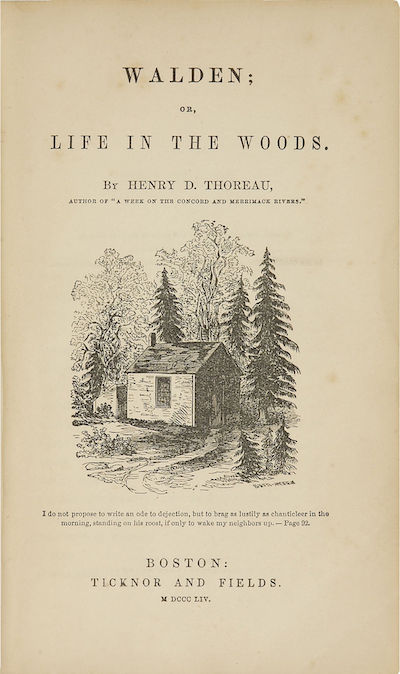 Нужно весьма избирательно подходить к тексту «Уолдена», чтобы выставить его автора чванливым снобом. Например, пропустить сетования Торо о неразвитости читательских практик у его соплеменников: «Неужели мне суждено только слышать о Платоне и не прочесть его книги? Словно Платон — мой земляк, а я его никогда не видел, мой ближайший сосед, а я ни разу не слышал его речей и не вдумывался в их мудрость. Как это получается? Его диалоги, содержащие все, что было в нем бессмертного, лежат на полке, а я их не читал. Мы живем низменной жизнью, мы необразованны и безграмотны; и в этом отношении я, признаюсь, не делаю большого различия между безграмотностью тех моих земляков, которые не знают азбуки, и безграмотностью тех, кто выучился читать лишь для того, чтобы читать книги для детей и слабоумных. Мы должны стремиться сравняться с достойными людьми древности, а для этого надо прежде всего узнать об их деяниях. Но мы — мелкая порода, и наши духовные взлеты ограничены столбцами ежедневных газет».
Нужно весьма избирательно подходить к тексту «Уолдена», чтобы выставить его автора чванливым снобом. Например, пропустить сетования Торо о неразвитости читательских практик у его соплеменников: «Неужели мне суждено только слышать о Платоне и не прочесть его книги? Словно Платон — мой земляк, а я его никогда не видел, мой ближайший сосед, а я ни разу не слышал его речей и не вдумывался в их мудрость. Как это получается? Его диалоги, содержащие все, что было в нем бессмертного, лежат на полке, а я их не читал. Мы живем низменной жизнью, мы необразованны и безграмотны; и в этом отношении я, признаюсь, не делаю большого различия между безграмотностью тех моих земляков, которые не знают азбуки, и безграмотностью тех, кто выучился читать лишь для того, чтобы читать книги для детей и слабоумных. Мы должны стремиться сравняться с достойными людьми древности, а для этого надо прежде всего узнать об их деяниях. Но мы — мелкая порода, и наши духовные взлеты ограничены столбцами ежедневных газет».
Это место довольно парадоксально и неплохо характеризует Торо. Вы же не думаете, что протеже Ральфа Уолдо Эмерсона к 28 годам (когда отправился жить на пруд) еще не читал Платона? Достаточно пролистать несколько глав, чтобы наткнуться на анекдот о платоновском двуногом человеке без перьев. Исследователи (см. Thoreau's Importance for Philosophy, Fordham University Press, 2012), отмечая в «Уолдене» аллюзии на «Государство», «Апологию Сократа» и другие диалоги Платона, расценивают эти строки как риторический ход или же признание Торо (на фоне его слов по соседству об огромных, чуть ли не героических усилиях, которых требует подлинное чтение), что в строгом смысле слова он Платона до сих пор не прочел. Независимо от того, какая интерпретация верна, здесь Торо в гораздо большей степени солидаризируется с согражданами, чем мнит себя их пророком. Глава «Посетители» во многом подтверждает это — сложно обвинить в гордыне человека, заключающего, что многие из посетивших его бедняков «разумнее, чем так называемые надзиратели над бедными и члены городской управы, и что им пора было бы поменяться местами».
Эти строки содержат еще одно свидетельство в пользу искренности Торо. В статье New Yorker сетуют — преподнося это как шокирующий срыв покровов, — что на самом деле Торо вовсе не был отшельником: «На самом деле Уолденский пруд в 1845 году был едва ли более на отшибе тогдашнего общества, чем Проспект-парк сегодня. <...> Торо мог пройтись от своей хижины до семейного дома в Конкорде за двадцать минут — примерно за столько же можно миновать пятнадцать кварталов от Карнеги-холла до Центрального вокзала. Он совершал эту прогулку несколько раз в неделю, соблазненный печеньем матери или возможностью пообедать с друзьями. Эти факты он замалчивает в „Уолдене”, вместо этого c дотошностью скряги рассказывая о своем рационе». Вкупе с вышеперечисленными претензиями это ужасное пристрастие Торо к материнской выпечке и дружеским встречам позволяет критику резюмировать, что Торо «Уолдена» и Торо настоящего Уолдена — это два разных человека; первый нам последовательно врал о втором: «Лицемерие Торо в том, что он прожил сложную жизнь, делая вид, что живет простой. Хуже того, он проповедовал другим жить так, как сам не жил, отчитывая их за компромиссы и сложность».
Оказывается, великий американский киник XIX века Генри Торо, проживший два года на берегу Уолденского пруда, на самом деле исподтишка сбегал из своей кельи к семейному очагу! Но это разоблачение, венчающее весь критический профайл New Yorker, никуда не годится — недаром Торо говорит, что «наши духовные взлеты ограничены столбцами ежедневных газет». В главе «Поселок» он сходу пишет, что до полудня «работал на огороде, иногда читал и писал, а после этого обычно вновь купался в пруду, задавшись целью переплыть какой-либо из его заливов, обмывал с себя трудовой пот или усталость от умственных занятий и во второй половине дня был совершенно свободен. Каждый день или через день я шел в поселок за новостями <...> Я врывался в один из домов, где меня хорошо принимали, и, выслушав все новости последнего помола — узнав, каковы виды на войну и мир и долго ли еще продержится свет, — пробирался задами и скрывался в лесу». Он вовсе не утаивает, что, несмотря на аскезу, регулярно отлучался в общество — этот «большой отдел новостей».
 Торо, конечно, можно обвинить в лицемерии. Но тогда придется признать, что основания для этого уже целиком содержатся в самом «Уолдене». Не требуется какой-то кропотливой работы с архивами, чтобы вдруг вывести автора на чистую воду и заявить: смотрите-ка, а на пруду жил вовсе не аскет, а двуличный мерзавец! Статья New Yorker о Торо перекликается с материалом о Сенеке в New York Review of Books, написанным Мэри Бирд (последнюю книгу которой «Горький» обозревал): каким же стоиком был этот прихвостень Нерона, возлежавший на своих непомерных богатствах в роскошной вилле? И какой из Торо певец простоты, если он не смог подчинить ей свою жизнь? Это распространенный жанр критики: обвинить радикала в том, что он недостаточно радикален. И, к сожалению, очень часто — оправданный. Но не в тех случаях, когда объект критики никогда не претендовал на то, чтобы соответствовать ее неуместным критериям. Торо обещал правдиво рассказать как о ничтожестве, так и о высоком смысле своей спартанской жизни — и правдиво рассказал: и о том, и о другом.
Торо, конечно, можно обвинить в лицемерии. Но тогда придется признать, что основания для этого уже целиком содержатся в самом «Уолдене». Не требуется какой-то кропотливой работы с архивами, чтобы вдруг вывести автора на чистую воду и заявить: смотрите-ка, а на пруду жил вовсе не аскет, а двуличный мерзавец! Статья New Yorker о Торо перекликается с материалом о Сенеке в New York Review of Books, написанным Мэри Бирд (последнюю книгу которой «Горький» обозревал): каким же стоиком был этот прихвостень Нерона, возлежавший на своих непомерных богатствах в роскошной вилле? И какой из Торо певец простоты, если он не смог подчинить ей свою жизнь? Это распространенный жанр критики: обвинить радикала в том, что он недостаточно радикален. И, к сожалению, очень часто — оправданный. Но не в тех случаях, когда объект критики никогда не претендовал на то, чтобы соответствовать ее неуместным критериям. Торо обещал правдиво рассказать как о ничтожестве, так и о высоком смысле своей спартанской жизни — и правдиво рассказал: и о том, и о другом.