«Я испорчен культурной деятельностью»
Интервью с поэтом Андреем Родионовым. Часть вторая
Был ли у вас идеальный образ поэта и того, как должны выглядеть плоды его трудов?
Нет, я класса с восьмого до 2000 года руководствовался только интуицией. Что-то нащупаешь путем проб и ошибок — и хорошо. А настоящее мое творчество началось уже в красилке: я понял литературу благодаря друзьям, принимавшим тяжелые наркотики. Все они в какой-то момент стали ими увлекаться, а любимое развлечение у людей в таком состоянии — что-нибудь кому-нибудь рассказывать. Я слушал-слушал их истории и наконец начал понимать, что для литературы важно. Я понял, что необходима некая отстраненность от того, что происходит лично с тобой, и начал придумывать истории на основе их историй. А поскольку мне лучше всего подходила роль поэта, я стал эти истории рифмовать. Мне страшно было показывать людям свои опыты — и я записывал сочиненное на магнитофон, когда мои собутыльники выходили из красилки (это случалось, как правило, по утрам). А когда все бухали и были под другими делами, в приподнятом настроении, я включал им записи и в конце концов понял, что у меня получается.
То есть ваша поэтика сформировалась благодаря такому окружению?
Нет, конечно. Окружение стало, по всей видимости, последней каплей. А теперь эта манера рассказывать истории перекочевала в мои пьесы, больше историй в стихах я стараюсь не рассказывать. Думаю, где-то к 2007 году я слегка исписался — автор, как правило, всегда это чувствует последним, когда читатели уже все поняли. Я даже замолчал на какое-то время, потому что мне надо было это осмыслить. И потом, году в 2011-м, мне пришло в голову, что не все так страшно: нужно начинать писать пьесы, тем более я уже был к тому времени в театральной среде, да и моя жена, Екатерина Троепольская, не лишена литературного таланта, и мы вместе стали придумывать: я отвечал за стихи, Катя за сюжет, как-то так мы и стали взаимодействовать.
А тяжелые наркотики, о которых вы говорите, это героин?
Ну конечно.
Насколько я понял, работа у вас в красилке была тяжелая, как она сочеталась со злоупотреблением такими вещами?
Я сам не злоупотреблял, но тяжелая работа вполне сочетается с тяжелыми наркотиками и крепким алкоголем.
Хорошо поработал — хорошо отдохнул?
Да-да. Там была очень тяжелая физическая работа. Когда ты стоишь по колено в кипятке, а вокруг бурлят огромные котлы, реально страшно, потому что если долбанет током, то не 220, а гораздо серьезнее, насмерть. Кругом вода, пар, и самое страшное даже не это, а то, что ты должен постоянно думать, как попасть в цвет: ведь тебе дали образец, клочок бумаги определенного цвета, и ты должен покрасить ткань не в индиго и не в серо-синий цвет, а именно в такой, какой на бумажке. Будь любезен, покрась двадцать метров широченной тяжеленной кирзы вот в этот цвет, говорит художник.
Как же можно добиться требуемого оттенка?
Сначала просто варишь ткань, потом добавляешь чуть-чуть синего, варишь ткань дальше, потом, если тебе нужен слабый оттенок, сыплешь порошка, чтобы окраска шла равномерно, а потом начинаешь догонять уже до требуемого цвета: добавляешь немного черного, немного других красителей, может быть, немного соли — если надо, чтобы цвет был поинтенсивнее. Настоящий дуализм: ты вроде должен и ужасно серьезную интеллектуальную работу внутри головы проводить, чтобы правильный цвет высчитать, и при этом занимаешься тяжелейшим физическим трудом, ведь двадцать метров мокрой ткани, а то и больше, физически невозможно поднять в одиночку. У нас были палки для этого, черенки от лопат. Некоторые куски ткани и вдвоем-то не поднимешь, такая тяжелая работа.
Давайте вернемся к чтению. В вашем рассказе почти не возникает авторов, которых можно было бы назвать вашими личными героями, они все идут будто бы через запятую — Бальмонт, Бродский и так далее. Но ведь за годы к каким-то конкретным фигурам у вас наверняка сформировалось особое отношение? Например, название вашей новой книжки неслучайно звучит так: «Поэтический дневник, начатый в день смерти Юрия Мамлеева 25 октября 2015».
У меня есть хороший друг по прозвищу Софроний, с которым мы теперь очень редко видимся. В какой-то момент он появился в красилке, видимо, в районе 2000 года: богемная наркоманская театральная тусовка располагала к новым знакомствам — можно было прийти к нам и тусоваться в центре города, на Большой Дмитровке. Следом за ним стали появляться поэты, некоторые из них до сих пор живы, им немало лет, а там я их видел совсем юными. Я с ними выступил разок-другой, и у меня стали появляться товарищи вроде Софрония, которые приносили мне книжки поумнее. Не будем обманываться, самостоятельно человек вряд ли способен получить приличное образование — ему всегда нужно советовать. Такова обязанность более опытных людей: если видишь, что человек хочет развиваться, покажи ему эту книжку, и эту, и эту. Софроний советовал мне в том числе и Мамлеева — сперва ранние рассказы, потом роман «Шатуны», так что я люблю его еще с тех пор.
Читал я многое, но что-то меня трогало особенно сильно. В двадцатилетнем возрасте я прочитал «Тропик Рака», он очень сильное на меня впечатление произвел, как и роман «Это я, Эдичка» (хотя по-настоящему новаторская книга, конечно, только «Тропик Рака»), — прежде таких произведений в Советском Союзе я не встречал. Потом вышел «Голый завтрак» Берроуза, и я целый год возил его с собой в сумке. Ох, как я его любил! Просто не могу. Потом в «Птюче» или еще каком-то модном журнале я прочитал один рассказ Буковски (больше тогда ничего еще не было напечатано на русском) и как раз тогда же, в 1996 году, уехал на месяц в Ирландию, у меня был бзик: я думал, что выучу английский язык и останусь там. Первое, что я сделал в Ирландии, — зашел в книжный магазин и купил там «Post Office», роман Буковски про почту, самый первый и самый известный. Нам говорили на уроках английского, что надо просто читать литературу в оригинале: даже если вы не понимаете ничего — просто читайте, в итоге поймете. И я стал читать Буковски. Да боже мой, я процентов девяносто не мог перевести, но как мне это нравилось! Его короткие точные фразы я чувствовал нутром даже там, где совершенно не понимал, о чем идет речь, а к концу книги действительно стал уже более-менее понимать. Любовь к Чарльзу Буковски, которой тоже немало лет, не то чтобы иссякла теперь, просто я его всего прочитал и он мне уже как родной.
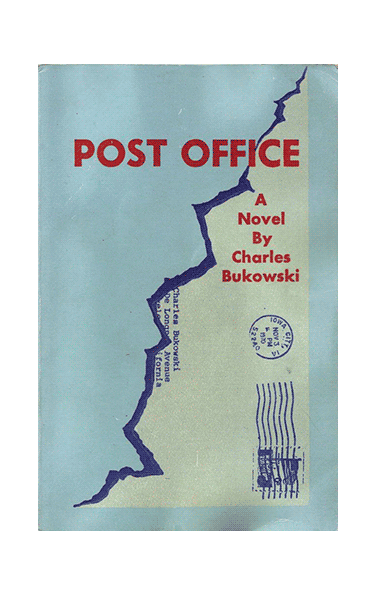
Я до сих пор, до 47 лет, сохранил довольно детский характер, до сих пор радуюсь открытиям и последние несколько лет читаю запоями, как алкоголик. Начинается запой — читаю, потом он в какой-то момент прекращается. Какое-то время назад я стал читать русскую классику. В молодости, конечно, было прочитано немало, но тут я решил восполнить все пробелы — и то, что по школьной программе читал давясь, только начало и конец, теперь уже прочитал сознательно. Сейчас с удовольствием перечитываю и читаю Чехова. До этого читал Куприна, а сейчас у меня с собой стихотворения Веневитинова, прелестного поэта начала XIX века. Он умер совсем юным, в 22 года.
После того, как начали получаться стихи, которые вас устраивали, вы сразу принялись выступать?
Меня, что называется, стало переть, и я понял, что должен выступать. А сейчас меня, кстати, перестало от этого переть. И я перестал выступать.
Известная запись 2003 года, где вы выступаете в бункере НБП с Лимоновым, относится к тому моменту, когда начало переть?
Вот-вот, тогда был самый расцвет. Выступления были каждую неделю, Мирослав Маратович Немиров организовывал их то там то сям. Не знаешь, где что произойдет: там он штаны стянет — покажет зрителям задницу, там произойдет какая-то драка, в третьем месте еще что-то, клевые времена были.
Как вы с познакомились с Немировым и его компанией?
Приехал я как-то раз к Софронию, чтобы выпить, мы выпили, а утром он говорит: «Пойдем еще выпьем, похмелимся», опохмелились, «а теперь поехали к Немирову». Немиров жил черт-те где, в Королеве Московской области, за Мытищами, и мы отправились туда. Насколько мы были пьяные, не помню; как мы туда добрались, не помню. Помню только, что мы вошли и там был Немиров. Потом несколько раз в течение года мы встречались с ним, а затем уже меня как-то приняли в «ОсумБез», поэтическую организацию «Осумасшедшевшие Безумцы», и теперь уже мероприятия с участием Немирова и компании стали систематически проходить: встречи, выступления, поездки в Питер, Ростов-на-Дону, еще куда-то. [О возникновении и деятельности «ОсумБеза» «Горькому» рассказывал поэт Всеволод Емелин, товарищ Андрея Родионова. — Прим. ред.]
Что из себя представлял «ОсумБез» и насколько он был эффективен, на ваш взгляд? Что он вам дал?
На тот момент он был крайне эффективен, потом стал неэффективным, поскольку, понятное дело, у каждого поэта свой путь. В начале нулевых нас никто не знал, причем, что самое страшное, мы были уже немолоды. Мне уже перевалило за тридцать, Емелину за сорок — в общем, уже не юный Моцарт. Я писал стихи и выступал, Емелин писал стихи и даже где-то печатался. Немиров был известен в Тюмени и Ростове-на-Дону, в Москве его хуже знали, хотя он, конечно, был самым известным, о нем снимали фильм, его печатали в Италии и здесь у нас в журналах. Еще у нас был четвертый товарищ, Дмитрий Данилов, известный сейчас писатель. А мой дорогой товарищ Софроний нас умело и лукаво собрал вместе: Мирослав Немиров, конечно, был хорошим организатором, но резким человеком, а Софроний как-то все это сглаживал. Присоединялись к нам и другие люди. Что касается нашего успеха, нам помогла немировская дружба с митьками: мы выступили в Питере, и поэт Михаил Сапего, руководитель издательства «Красный матрос», издал наши с Емелиным первые книжки.
Как называлась ваша первая книга стихов?
Даже не помню, она была толстенькая такая, карманного формата, с моим портретом на обложке, смешная. Михаилу Сапеге я по-прежнему очень благодарен, он настоящий подвижник.
«Пельмени устриц» вышли позднее?
Позднее, и это был не «Красный матрос». Их издал дизайнер Андрей Дмитриев, ему просто требовались выходные данные какого-нибудь издательства, и мы попросили их у Сапеги. А потом появилось замечательное издательство «Ракета», которым заведовал наш товарищ Владимир Бурунов по прозвищу «Нескажу», и оно выпускало книжки осумбезовцев.
Когда в ваших рядах начался разлад?
В какой-то момент Мирослав Маратович решил, что он нам как отец, что он знает лучше, где нам выступать и что нам делать. Первым, конечно, Всеволод Олегович стал задаваться вопросом: а почему мы, собственно, должны выступать там, где скажет Немиров?
Как бы то ни было, на те годы пришелся пик моей известности, которая к концу нулевых, как мне кажется, сошла на нет. Я стал тогда даже за границу с выступлениями ездить, в Германию, Францию, Америку, США, при этом уже понимал, что мои истории несколько себя исчерпали, надо придумывать что-то другое. Именно в тот момент, когда я начал разочаровываться в своем формате бесконечных городских баллад, я и начал ездить за границу. Так всегда бывает.
Не понимаю, как вышло, что в нулевых была мощная поэтическая волна, новые имена, книжки, чтения, а потом вдруг все сошло на нет.
На самом деле по сравнению с сегодняшним днем это жалкие крохи: если сравнить количество поэтических акций тех времен и нынешних, то сегодня в неделю можно уложить то, что тогда происходило за год. При этом в те годы действительно был какой-то всплеск (впрочем, не исключено, что наши рассуждения попахивают старперством). Но тогда же появился и Федор Сваровский, и Мария Степанова, и многие другие… В какой-то момент, когда я играл с электронной группой «Елочные игрушки», у нас вообще были полные залы.
На мой взгляд, ваша запись с «Елочными игрушками» вышла крайне удачной. С группой «Окраина» тоже, конечно, хорошая, но «Елочные игрушки» необыкновенные, особенно мне нравится композиция «Синий эльф», да и «Девятиэтажки» отличные.
Саша Зайцев и Илья Барамия из «Елочных игрушек» удивительно талантливые люди, они в то же время работали со Стасом Барецким и с 2H Company, постоянно привлекали каких-то молодых музыкантов в Питере, да и сейчас продолжают работать.
Вы просто познакомились и решили что-то такое сделать вместе?
Я выступал на «Пикнике Афиши», году в 2006-м, читал стихи. Они подошли и предложили поиграть.
А «Окраина» того же времени проект?
Может, даже чуть более поздний, но это все вторая половина нулевых. «Окраина» была сложным проектом, внутренним и, как мне кажется, не особо предназначенным для публики. Нам нравилось встречаться, играть, иногда выпивать после наших встреч, но, конечно, на «Окраину» не собралось бы и десятой части народа, который приходил на «Елочные игрушки».
В «Окраине» ведь Игорь «Джефф» Жевтун играл, который много лет был в составе «Гражданской обороны».
Ну это было круто, но не для всех — для меня и еще для десяти человек.
Несмотря на такие вкусы и эстетику, у вас ведь в итоге сложились очень хорошие отношения с литературным истеблишментом?
Да, потому что я, во-первых, человек добрый, а во-вторых, мало-мальски образованный. Не скажу, что я систематически образован, но что-то читал, могу разговор поддержать.
Вы часто с теплотой отзываетесь о литераторах, которых принято недолюбливать за попсовость, — о Вере Полозковой, например.
Я с полгода назад, кажется, читал у Дмитрия Кузьмина, что Вера Полозкова вполне имеет право на существование. И он объясняет почему: есть научные издания, а есть научно-популярные издания, и пользы от научно-популярных порой не меньше, чем от научных, потому что те и другие выполняют свои задачи. Тот же Лев Оборин, довольно серьезный критик, поддерживает Веру Полозкову, ну а я с ней просто дружу.
Следует добавить, что я ведь еще и культурный менеджер, причем занимаюсь этим довольно давно, лет пятнадцать. И вот этот менеджер во мне в какой-то момент включается: я, как куратор нескольких поэтических фестивалей, понимаю, какой поэт интересен народу, а какой нет. У меня есть интуиция, пускай и не абсолютная, есть выработанный за годы вкус, а также простое циничное понимание, выработанное опытным путем, — на кого ходят слушатели, а на кого не ходят.
То есть вы постепенно пришли к такой всеприемлющей позиции?
Да, потому что я редко бываю поэтом: только в одиночестве или, если уж приходится выступать, на сцене. А между одиночеством и выступлениями я не поэт, поэтому я и сейчас говорю больше как театральный менеджер. Как поэт я все это переварю, и если у меня возникнет какая-то мысль, то я ее выскажу в стихотворении или включу в пьесу. К сожалению, я слишком испорчен культурной деятельностью, я часто не различаю, где я говорю как культурный менеджер, тем более что в последние годы постоянные лекции о современной поэзии приучили меня трещать языком или, точнее, просто все время находить для аудитории что-то интересное.
Больше техники, чем чувства?
Не без этого, надо относиться к себе критично. Но все же бывают прекрасные мгновения, когда я — поэт, и только.
У вас есть замечательное стихотворение о том, как на дне рождения книжного магазина «Фаланстер» ваших друзей, рабочих из Мытищ, побили интеллигенты. Судя по всему, вас с «Фаланстером» многое связывает?
«Фаланстер» — моя отдельная большая любовь. Помню, много лет назад я как-то раз там оказался, зашел куда-то между стеллажей, упал лбом на штырь и заснул на нем. Борис Куприянов нашел меня в луже крови и разбудил: череп я не разбил, только разорвал на нем кожу. Я был тогда очень смешной.