«XVIII век привлек меня возможностью эскапизма»
Научная биография филолога Марка Альтшуллера
Давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей семье: что читали у вас дома, кто помогал определиться с выбором книг, какие были самые яркие книжные впечатления в детстве?
Семья моя была самая обычная, не очень интеллектуальная. Отец — инженер-металлург, мать — бухгалтер. Отец перед войной работал в НИИ, написал несколько статей по прикладной металлургии. Книг в доме было довольно много. Все читали. Я научился читать сам, кажется около четырех-пяти лет. А до того, помню, мама читала мне сказки Пушкина, и я плакал, когда царевича Гвидона «в бочку засмолили».
Большую роль в приобщении к книжности сыграл дядя Саша, брат отца. Он работал в Союзе писателей, на административной должности, кажется, бухгалтером. Однажды он взял меня с собой на работу. Я сидел в каком-то заднем помещении «Лавки писателей» (книжный магазин на Невском). Вокруг были стены с полками, сплошь уставленные книгами. И маленький мальчик с вожделением смотрел на эти сокровища. Дядя Саша постоянно приносил мне книги, и совсем не детские. Помню большой однотомник Некрасова и постоянно читаемый знаменитый однотомник Пушкина, «золотой том», изданный Томашевским. Много было и других книг: Жюль Верн, Вальтер Скотт, Майн Рид.
Остался в памяти смешной эпизод: почему-то родители не разрешили читать «Дневник Адама» и «Дневник Евы» Марка Твена (и Том Сойер, и Гекльберри Финн, и «Янки при дворе…», и «Принц и нищий» были давно прочитаны). Запретный плод, как известно, сладок: я, конечно, все прочел. До сих пор не понимаю причины запрета.
А потом была война. Бомбоубежище. Отдаленные взрывы. Настоящих бомбежек и блокады я не застал. Уже в июле нас эвакуировали. Отец всю блокаду работал на заводе. Чинили танки, которые доставлялись прямо с фронта, он был совсем рядом.
Мы оказались в Новосибирске. Местные жители относились недоброжелательно, называли «выковыренными». Жили мы в маленькой комнатенке: с одной стороны — топчан, на котором спала мама с младшим братом, с другой — большой стол, кажется, письменный. Между ними — узкий проход. На столе ели, готовили уроки, и я спал. Когда не было электричества, стоя на нем на коленях читал при свете коптилки (консервная банка с керосином, в который опущен фитиль): запомнился однотомник Лермонтова, «Отверженные» и много другого. Так прошли три года (5, 6, 7-й классы).
Была детская любовь. Девочка была местная, звали ее Леночка Алексеева. Я часто бывал в их доме, ее папа был писателем. Лена показывала мне маленькие сборнички стихов, изданные в Париже (отец был солдатом «русского экспедиционного корпуса»). Недавно я узнал из книги Романа Тименчика «История культа Гумилева» (2018), что Никандр Алексеев был руководителем Новосибирского отделения Союза писателей. Он называл Гумилева, с которым был знаком в Париже и который написал доброжелательную рецензию на сборник его стихов, «поэтом-фашистом, поэтом-не революционером». Позднее он радовался, что «у нас в Сибири нет ахматовых и зощенко». Тогда я, мальчишка, конечно, ничего этого не знал и с удовольствием бывал в уютной квартире со многими-многими книгами, доступ к которым, с благосклонного разрешения отца Лены, был для меня открыт. Смутно помню его: молчаливый человек с трубкой в руках или в зубах, в меховой безрукавке. Книги разрешали брать домой, я читал все подряд: и «Войну и мир», и «Графа Монте-Кристо», и «Агасфера» Эжена Сю, и многое другое.
Еще запомнилось, как в седьмом классе на уроке литературы читал под партой Белинского, было тогда большое трехтомное издание в черных переплетах. Учительница забрала, посмотрела и… вернула.
 В 1944 году мы вернулись в Ленинград. Тогда на весь громадный Октябрьский район была одна единственная мужская школа с классами после седьмого. С 17 лет брали в армию (нам в восьмом было по 15). Еще шла война. Наши сверстники после седьмого класса предпочитали военные училища, техникумы — было голодно, нужна была стипендия, старались скорее начать зарабатывать. В школе было два восьмых и один девятый класс, десятого не было. В большинстве мальчики были из интеллигентных семей (многие потом заняли заметные места и в науке, и других областях). Атмосфера в классах была дружная и в общем интеллектуальная. Все читали много, запоем. Спорили друг с другом и с учителями. Трудно сейчас вспомнить и хоть чуть-чуть перечислить — Тургенев, Толстой, Достоевский, Диккенс, Байрон, Оссиан, Флобер; поэты Серебряного века: Ахматова, Северянин, любим был Блок и многое, многое другое.
В 1944 году мы вернулись в Ленинград. Тогда на весь громадный Октябрьский район была одна единственная мужская школа с классами после седьмого. С 17 лет брали в армию (нам в восьмом было по 15). Еще шла война. Наши сверстники после седьмого класса предпочитали военные училища, техникумы — было голодно, нужна была стипендия, старались скорее начать зарабатывать. В школе было два восьмых и один девятый класс, десятого не было. В большинстве мальчики были из интеллигентных семей (многие потом заняли заметные места и в науке, и других областях). Атмосфера в классах была дружная и в общем интеллектуальная. Все читали много, запоем. Спорили друг с другом и с учителями. Трудно сейчас вспомнить и хоть чуть-чуть перечислить — Тургенев, Толстой, Достоевский, Диккенс, Байрон, Оссиан, Флобер; поэты Серебряного века: Ахматова, Северянин, любим был Блок и многое, многое другое.
Вспоминается грустно-смешное. Я читал Фейхтвангера и восхитился стихами Иосифа Флавия: «Не Сионом зовется царство, / Которое вам возвещаю, / Имя ему — земной круг». Я начал с гордостью называть себя космополитом буквально за несколько недель до того, как газеты начали очередную антисемитскую кампанию против «беспачпортных бродяг в человечестве», «безродных космополитов» (до страшного удара по интеллигенции, август 1946-го, оставалось, кажется, года полтора-два). Солженицын где-то вспоминал, как на страницах «Литературной газеты» прекрасное слово космополит съежилось, зашипело и стало означать просто «жид».
Вы окончили восточный факультет Ленинградского университета. Почему вы потом переключились на русскую литературу? У кого вы учились, кто на вас в тот период повлиял?
В 1947 году я поступил на Восточный факультет Ленинградского университета — тянуло к гуманитарным занятиям, меня привлекала экзотика восточных литератур. Университетские годы, хотя и сильно расширили кругозор и общее гуманитарное образование, но в общем запомнились мало и повлияли на меня, как это ни странно, гораздо меньше, чем последние школьные годы. С одной стороны, действовала общая угнетающая атмосфера. О второй половине 1940-х выразительно написал Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом.: «…мрачнейшая из советских эпох. <…> режим достиг апогея, вспух и перезрел, перестал сознавать свои границы и чуть не довел страну и мир до катастрофы, по сравнению с которой и Третий рейх и Вторая мировая показались бы бедным наброском».
С другой стороны, и это, наверное, самое главное, я не был сильно увлечен занятиями и был далеко не таким выдающимся студентом, как мой друг, блестящий лингвист Сема Рудин, рано погибший, или выдающийся палеограф Владимир Воробьев-Десятовский. Впрочем, закончил я университет вполне благополучно и, как и многие мои сокурсники, оказался без работы по специальности. Сыграла, конечно, свою роль и моя «неблагозвучная» фамилия. Времена были тяжкие, готовилось позорное «дело врачей», до смерти Людоеда оставалось меньше года.
После многих поисков я начал работать в средней школе, преподавал русский язык и литературу и в младших классах, и в вечерней школе, и вообще где придется. Русскую литературу я всегда любил, еще в школьные годы считался ее знатоком и за приготовление чертежей (вещь для меня непосильная) охотно писал сочинения по литературе. Работа в старших классах, а потом и в Ленинградском художественном училище им. Серова, меня интересовала, и я все больше и больше втягивался в изучение русской литературы (помню, поначалу у меня была задача: знать в десять раз больше, чем мои ученики).
Хотелось поступить в аспирантуру, это было непросто. Я «прикрепился» (была такая форма) к кафедре русской литературы Педагогического института им. Герцена для сдачи кандидатского минимума. Минимум я сдал, и это, слава богу, освободило меня от очередной сдачи марксистско-ленинской философии уже в университете. В 1960 году я поступил в заочную аспирантуру Ленинградского университета. Литературу XVIII века в качестве объекта научных штудий я выбрал далеко не случайно.
Систематического курса истории русской литературы я не слушал, хотя общие филологические курсы нам на восточном факультете читались: введение в литературоведение (Виктор Максимович Жирмунский), русская литература ХIХ века (Георгий Пантелеймонович Макогоненко). Мой выбор объяснялся в значительной степени идеологическими и личными причинами. О занятиях советской литературой для меня не могло быть и речи. Мои нынешние аспиранты, здесь, в Америке, гораздо больше интересуются современной литературной жизнью России, чем ХIХ веком или началом ХХ, не говоря уже о веке XVIII или средневековой русской литературе. И я их понимаю. Думаю, что то же наблюдается и в нынешней России. Не то было для моего поколения в середине ХХ века. С нашей точки зрения, вся советская литература, по сравнению с классической, была неинтересной, не представляла ни малейшей эстетической ценности и, главное, казалась насквозь лживой. Заниматься ее изучением, с моей точки зрения, было неинтересно, а писать то, что о ней думаешь, — невозможно.
Я сейчас говорю о своих юношеских настроениях конца 1940–1950-х годов. После смерти Сталина ситуация стала, конечно, меняться, но цензура, советская идеология продолжали давить на сознание. Литература ХIХ века, по моей тогдашней наивности и неопытности, казалась мне очень хорошо изученной, и, кроме того, здесь тоже слишком много было советской идеологии: прогрессивный романтизм, реакционный романтизм, критический реализм (с неизбежной формулой Энгельса — «изображение типических характеров в типических обстоятельствах»), «неистовый Виссарион», утопический социализм Чернышевского и т. д. и т. п. ХVIII век казался мне в большей степени удаленным от советской пропаганды и обязательных идейных штампов (и, в общем, это было справедливо).
В научных занятиях хотелось уйти подальше от современности. Такой эскапизм вызывал настороженное подозрение властей: помню карикатуру в стенной газете филологического факультета (Восточный и Филологический факультеты помещались в одном здании) — на ней изображался лезущий в помойку студент (имя и фамилия назывались), который на семинаре осмелился сказать, что в поэзии символистов Блока и Брюсова есть своя эстетическая ценность. Мой друг Илья Перельмутер, классик, блестящий лингвист, автор фундаментального исследования «Общеиндоевропейский и греческий глагол», удостоился в той же газете довольно большой статьи, в которой его упрекали за чрезмерный интерес к Гомеру и Вергилию и пренебрежении к современной советской жизни. К счастью, никаких административных выводов за брань в стенной газете (это не был печатный партийный орган) не последовало.
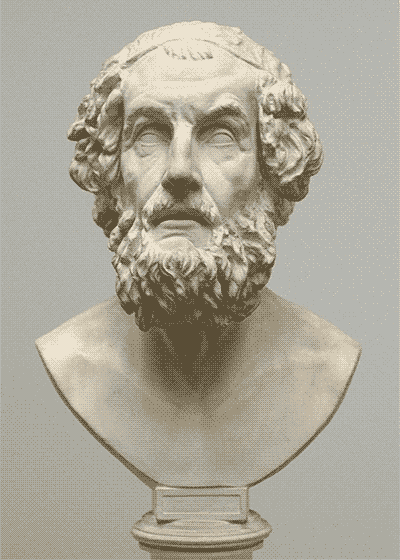
То есть литература XVIII века была для вас своего рода островком свободы?
Да, XVIII век привлек меня возможностью эскапизма. Его немного архаичные, бесконечно далекие от современности персонажи, занятные обычаи и нравы, столь далекая от современности литература все больше и больше привлекали меня. В пору «оттепели» отношение к современности стало меняться, однако и после разоблачения Сталина Хрущевым идеологическое давление, цензурные тиски оставались вполне ощутимыми, а мой эскапизм, стремление уйти от советской идеологической действительности, оставался достаточно сильным.
Итак, в 1960-м я поступил в аспирантуру. В выборе руководителя сомнений для меня не было. Я попросил назначить моим научным руководителем («шефом», на нашем аспирантском жаргоне) Павла Наумовича Беркова. Его труды отличались невероятным обилием материала, точностью и безукоризненной аргументацией научных построений. Позднее на его семинарах я оценил изящество и элегантность стиля Беркова, безукоризненную точность рассуждений. Его лекции отличались четкостью построения, строгой композицией, обилием материала — и никогда ни одной бумажки, только иногда книга из портфеля для цитирования. При этом как-то он мне сказал, что очень тщательно и долго готовится к лекциям. Память у него была потрясающая. Однажды он пожаловался, что утром в газете прочел какое-то дурацкое стихотворение (очевидно, зарифмованный патриотический бред) и теперь целый день не может избавиться от запомнившегося текста.
Студентов на его занятиях было немного: слишком академическим, далеким от современных интересов казался объект изучения. Время уже было «оттепельное», общественная жизнь заметно оживилась. Разрешили изучать и Серебряный век («позорное десятилетие», как называл его Горький). Блоковский семинарий Дмитрия Евгеньевича Максимова собирал массу желающих.
Не то было с XVIII веком. Помню, как с Натальей Дмитриевной Кочетковой, тоже аспиранткой первого года, мы пришли на первое занятие семинара по литературе XVIII века. Кроме нас, в аудитории было трое студентов. Вошел Павел Наумович. Он оглядел собравшихся: студентов за передним столом, нас двоих в заднем ряду, весело произнес: «Tres faciunt seminarium» [«Трое составляют коллегию». — Прим. ред.], — и начал занятие. Во время нашей первой встречи Павел Наумович прочел мне некоторое наставление об основных правилах поведения преподавателя и научного работника. Вероятно, это входило для него в обычный ритуал первого знакомства с новым аспирантом. Из правил мне запомнилось одно: всегда внимательно прислушивайтесь к мнениям и взглядам ваших учеников — даже если они вам возражают, они могут быть правыми, а их точка зрения справедливой. Это правило стало для меня на всю жизнь обязательным. Впрочем, честно должен сказать, что, не формулируя, я всегда очень внимательно и доброжелательно относился к словам моих учеников. Гораздо позднее книжку о литературе оттепели мы с Еленой Николаевной Дрыжаковой посвятили нашим ученикам 1960–1970-х.
Кстати, не могу не упомянуть здесь еще об одном эпизоде. Деканом Филологического факультета был тогда профессор Еремин, знаменитый исследователь древнерусской литературы. Я пришел к нему с какой-то пустяковой просьбой (кажется, хотел раньше сдать кандидатский экзамен, чтобы поскорее заняться диссертацией). Игорь Петрович посмотрел на меня и сказал только:
— Голубчик, ради бога, делайте, как вам удобнее.
Этот ответ я тоже запомнил на всю жизнь, и он стал для меня основным правилом общения со студентами и аспирантами.
Павел Наумович оказался очень внимательным, тщательно скрупулезным руководителем. Академик, глава группы XVIII века в Пушкинском доме («на общественных началах»), профессор университета, человек, постоянно занятый титанической научной работой (список его работ насчитывает около семисот трудов), он не жалел для меня своего времени. Каждые две недели я должен был в девять часов вечера приходить к нему в небольшой дом на Васильевском острове, который разделял с ним до своей трагической гибели в 1949 году в застенках КГБ Григорий Александрович Гуковский. Уходил часто около полуночи. Я рассказывал шефу о проделанной за две недели работе. Он прочитал мне (одному!) два курса по текстологии и по библиографии XVIII века.
Публиковать результаты научной работы вы тоже начали при поддержке Беркова?
Павел Наумович очень внимательно относился к моим первым шагам на научном поприще. Однажды я рассказал о замеченной мною публикации в журнале «Утренние часы» стихотворения Державина «К Эвтерпе». Публикация эта не была учтена в монументальном издании Я. К. Грота и имела некоторые разночтения. «Это нужно напечатать», — сказал Павел Наумович. Я с удовольствием погрузился в работу. Результатом стала небольшая статья, которую я постарался выполнить с максимальной тщательностью: на трех страничках более двадцати архивных и библиографических примечаний. Мой учитель прочел работу, сделал несколько замечаний и сказал: «Зайдите в „Русскую литературу”. Я предупрежу редактора, что вы придете». Так появилась в печати в 1961 году моя первая научная работа («Несколько уточнений к текстам стихотворений Г. Р. Державина»), которую я недавно, к своему удивлению, обнаружил в интернете.
Должен, однако, признаться, что, несмотря на удивительную добросовестность, внимательность и научную щедрость Павла Наумовича, я никогда не был его любимым учеником. Виной тому, возможно, было то, что я пришел к нему уже взрослым человеком. У меня были свои пристрастия и интересы, не всегда совпадавшие с пожеланиями учителя. Тема моей диссертации о лирике 1790-х годов была сформулирована им и вполне совпадала с моим интересом к поэзии XVIII века и к литературной жизни той эпохи. Павел Наумович хотел, чтобы, просмотрев всю поэтическую продукцию 1790-х, я выяснил основные мотивы и поэтические приемы авторов последнего десятилетия XVIII века. И я добросовестно, с громадным интересом штудировал все поэтические сборники, смотрел тогдашние журналы, уже выходившие в довольно большом количестве. Однако меня все более и более интересовали странные, подчас трагические судьбы немногочисленных поэтов конца того столетия, их индивидуальное творчество, отражение в нем литературной и не только литературной, но и идеологической, политической жизни эпохи, перипетии и темные пятна биографии моих мало кому известных героев (Ермил Костров, Семен Бобров, Панкратий Сумароков). Моя диссертация превращалась в очерки литературного творчества отдельных выбранных мною персонажей. Павел Наумович не возражал, но и не выражал никакого энтузиазма по поводу получившейся в результате работы.
Здесь же возникли у нас некоторые разногласия по поводу литературных дефиниций рассматриваемой эпохи. С моей нынешней точки зрения, эти разногласия не стоили выеденного яйца: литературные направления лишь необходимая рамка для классификации литературных явлений, неповторимых, индивидуальных человеческих судеб. Мне 1790-е представлялись эпохой преромантизма, начала могучего романтического движения, охватившего всю Европу. Павел Наумович, насколько мне помнится, видел в ней преимущественно явления постклассицизма.
В 1965 году я закончил диссертацию. Название ее, покрывающее отдельные четыре очерка и большую вступительную главу о Державине и русском преромантизме («Идейные и художественные искания в русской лирике 1790-х гг.»), придумал Павел Наумович. Прочитав текст, он прислал открытку (дело было летом, я находился в отъезде), в которой было сказано: прочитал, не согласен, защищать можно.
И вот настал день защиты. Эту историю я до сих пор люблю рассказывать друзьям и коллегам. Я прочел вступительное слово. Оппоненты (Любовь Ивановна Кулакова и Илья Захарович Серман) огласили свои весьма положительны отзывы. Был прочитан тоже весьма положительный внешний отзыв Юрия Михайловича Лотмана [«Горький» публиковал в прошлом году воспоминания Марка Альтшуллера о Юрии Лотмане и Заре Минц. — Прим. ред.], заданы вопросы. Я ответил и произнес традиционное заключительное слово, в основном состоявшее из благодарностей.
Вдруг Павел Наумович заявил, что он хочет сказать несколько слов. Председательствовал добрейший Аристид Иванович Доватур, филолог-классик, в лагере он учил латинскому языку Солженицына. Он деликатно заметил, что по протоколу руководитель не имеет права выступать после оппонентов. «Я не для протокола», — твердо сказал Павел Наумович. Препятствовать железной воле моего шефа никто не решился. Наверное, эта железная воля помогла ему в 1938 году пережить год заключения и выйти на свободу. Доватур уступил.
Павел Наумович начал по всем правилам риторики, постепенно наращивая напряжение.
— Когда Марк Григорьевич (он всегда называл своих аспирантов только по имени и отчеству) упомянул во вступительном слове некоторых исследователей, с которыми он не согласен, то он имел в виду меня. Когда Марк Григорьевич начал работу над диссертацией, я давал ему некоторые советы, но он со мной не согласился. Когда Марк Григорьевич работал над диссертаций, он не соглашался с моими предложениями и писал по-своему. Когда Марк Григорьевич написал автореферат, я возражал против некоторых его тезисов, но Марк Григорьевич со мной не согласился и сохранил их в автореферате.
В зале стояла мертвая тишина. Я, вероятно, очень бледный, стоял держась за кафедру. Выдержав длительную паузу, Павел Наумович закончил:
— И это очень хорошо. Я люблю учеников, которые со мною не соглашаются.
Вздох облегчения вырвался, кажется, не только у членов ученого совета, но и у всей довольно многочисленной аудитории. Голосование было единогласно положительным.
Я навсегда остался благодарен Павлу Наумовичу и до сих пор считаю, что всеми своими скромными успехами в науке я во многом обязан его педагогическому мастерству, требовательности и высокому профессионализму, которому всегда, в меру своих сил, стремился следовать. Памяти Павла Наумовича я посвятил оба издания своей книги «Беседа любителей русского слова», самой значительной для меня работы. Умер Берков 9 августа 1969 года. Дело было летом, меня не было в городе, и я не присутствовал на похоронах. Может быть, поэтому долго еще в коридорах Библиотеки Академии наук мне чудилась его худощавая фигура с быстрой и легкой походкой.
Уже в диссертации вы обратились к не самым очевидным фигурам русской литературы: П. Сумароков, Бобров, Костров — что определило ваш интерес к так называемым «второстепенным» авторам? Современному читателю они почти неизвестны, расскажите о них немного, пожалуйста. Почти забытый сегодня Ермил Костров ведь был не только поэтом, но и крупным переводчиком («Илиада», «Золотой осел»), какую роль его переводы сыграли в русской литературной традиции?
Выбор таких фигур для меня вопрос очень важный и принципиальный. Когда-то очень доброжелательный рецензент, говоря о книге «Эпоха Вальтера Скотта в России», упрекал меня, что наряду с крупными писателями (Лажечников, Пушкин, А. К. Толстой, Булгарин) я зачем-то подробно рассказываю о третьестепенных Константине Масальском и Рафаиле Зотове.
Такой подход к литературной жизни для меня абсолютно неприемлем. Культурный ландшафт определяется не самыми высокими горами, не самыми большими озерами, а всей совокупностью окружающей нас природы. Гении не вырастают на пустом месте. Чтобы почувствовать и оценить великие творения, надо знать ту обстановку, в которой развивалась литературная жизнь. Ну и просто интересно наблюдать за человеческими отношениями, перипетиями людских судеб в отдаленную эпоху.
Естественно, что я не формулировал это свое credo такими словами, когда писал диссертацию, но, как я уже говорил, человеческие судьбы, особенно малоизвестных, забытых писателей, интересовали меня больше, чем литературные приемы. Павел Сумароков, племянник знаменитого Александра Петровича, был сослан в Сибирь за подделку (нарисовал несколько ассигнаций); Костров был не только талантливым поэтом, но и пьяницей, и добродушным бессребреником; Николева напропалую ругали арзамасцы — интересно было узнать за что. А Бобров сразу захватил меня грандиозно-талантливыми, величественными и неповоротливыми стихами. Он был самым талантливым из этой четверки. Я и позднее часто обращался к его творчеству — впрочем, как и к другим героям своей давней диссертации.
Вы совершенно справедливо заговорили о Кострове-переводчике. Действительно, его стихи представляют меньше культурно-исторического интереса. Очень большую роль в русской литературной жизни сыграли два его перевода: «Золотой осел» Апулея и «Илиада» Гомера. Первый является одним из самых ярких и занимательных текстов, оставленных нам античностью. Костров перевел его живо, хорошим русским языком. «Язык его чист, правилен и изящен», — писал рецензент, когда «Золотой осел» Кострова был переиздан в 1870 году, почти через сто лет после первого появления в печати. Только в 1929 году его окончательно вытеснил перевод блестящего стилиста М. А. Кузмина.
Вы не упомянули о другой замечательной переводческой работе Кострова. Правда, этот текст, в отличие от Апулея и Гомера, давно уже не вызывает интереса даже у интеллигентных читателей, он стал в основном достоянием специалистов. Я говорю об одном из самых значительных явлений европейской литературы XVIII — начала ХIХ веков, о песнях Оссиана. Костров перевел их в 1792 году, и этот перевод сыграл очень значительную роль в русской литературе первой трети ХIХ века: все подражания, стихотворные переводы, реминисценции из Оссиана опирались на его работу. Следующий полный перевод, выполненный Екатериной Вячеславовной Балабановой, появился лишь через сто лет, в 1890 году. А следующий превосходный перевод, Юрия Давидовича Левина, выполненный на высоком научном уровне, был издан в серии «Литературные памятники» спустя еще почти сто лет — в 1983-м. При этом переводчик явно учитывал опыт и стилистические находки Кострова.
Очень большую роль не только в истории русской «гомериады», но и вообще в истории русской литературы сыграл неоконченный перевод «Илиады». Опираясь на опыт Кострова и продолжая его работу, Гнедич создавал свое знаменитое, лучшее в Европе, переложение античного эпоса. Об этом подробно рассказал Андрей Николаевич Егунов в замечательной книге «Гомер в русских переводах XVIII — XIХ вв.» (1964). Переводы Кострова сыграли большую роль в истории русской литературы, а со временем были заменены более современными текстами.
Как получилось, что вы переехали в Америку?
Я не очень люблю рассказывать об эмиграции. Но поскольку это уже история и теперь трудно представить обстановку давнего времени (50–60 лет назад — такой временной промежуток считал лучшим для исторических романов Вальтер Скотт), скажу об этом несколько слов. Вашему поколению трудно представить, через какие моральные, психологические мытарства приходилось пройти человеку, решившему покинуть страну «победившего социализма». Проклятия и издевательства на собрании, немедленное увольнение, бесконечные справки, унижение на таможне: вырезали даже дарственные надписи на книгах и т. д. и т. п. Имя уехавших было запрещено упоминать в печати. Так, в сочинениях Кюхельбекера («Путешествия. Дневник. Статьи»), вышедших в серии «Литературные памятники» (1979), мое имя было заменено именем В. Д. Рака. (См.: Литературные памятники 1948–1998. Аннотированный каталог. М.: Наука, 1999. С. 190.)
Главной причиной отъезда была душная атмосфера густой, непрерывной, постоянной лжи. В 1970-е годы мы часто ездили в Польшу (у моей жены Елены Николаевны Дрыжаковой были там дальние родственники, быстро ставшие нашими близкими друзьями). Хотя ходила поговорка «Курица не птица, Польша не заграница», все-таки это был совсем другой мир («Самый веселый барак в лагере социализма», — говорили о себе поляки»), там дышалось по-другому. Эти поездки обостряли отвращение к советской действительности. Кстати, мне удалось с оказией переправить польским друзьям рукопись книги «Беседы» (четыре сотни машинописных страниц никогда бы не удалось провезти через цепкие глаза и руки таможенных просмотрщиков). Они привезли эту еще черновую кипу в Рим, где мы дожидались разрешения на въезд в Штаты. Спустя четверть века я подарил им второе издание с надписью: «Дорогим Янке и Валентину, спасшим рукопись этой книги…».
Существенную роль в нашем решении сыграл отвратительный ползучий государственный антисемитизм. Я не люблю об этом рассказывать. Кстати, и Юрий Михайлович Лотман, и Ефим Григорьевич Эткинд были противниками отъезда, считая, что место интеллигенции в России, где надо честно делать свое дело. Что ж, каждый сам выбирает свою дорогу.
О жизни в Америке рассказывать не буду. Перемена обстановки, языка, прощание с друзьями (тогда казалось навсегда). Адаптация к новым непривычным условиям и пр. Эмиграция — вещь тяжелая. Постепенно мы привыкли и много, интересно работали.
Вы посвятили целую книгу консервативному литературному обществу «Беседа любителей русского слова», во главе которого стояли Шишков и Державин, и, по сути, заново открыли его для современных читателей. Что побудило вас заняться этой темой, чем она, на ваш взгляд, важна?
Я до сих пор считаю работу о «Беседе» своей главной книгой. Интерес к этой теме возник у меня из желания разобраться, что же на самом деле представляло собой это литературное объединение. Еще с ХIХ века за ним закрепилось представление смешного и жалкого сборища каких-то архаичных и бездарных чудаков, о котором в основном помнили только по остроумным насмешкам «Арзамаса». В советское время «Беседу» свалили в одну кучу со всеми другими «реакционерами». Туда входили и император Александр I (царь может быть только плохим), и Карамзин, реакционный историк (в газете «Ленинградская правда» однажды обругали учительницу литературы за то, что на уроке она сказала, что Карамзин повлиял на создание «Бориса Годунова»).
Тынянов очень много сделал для понимания исторической роли «Беседы», но он сознательно подчеркивал только ее филологический характер: не было речи ни о чем, кроме «слога» и борьбы за чистоту русского языка, очищение его от французских заимствований. Я думаю, что он делал это сознательно. Такое ограничение давало ему возможность серьезно (без обязательной ругани) анализировать деятельность «Беседы» и уменьшало не только цензурные, но и политические риски, хотя от ортодоксов-марксистов ему доставалось.
На самом деле «Беседа» выражала политические настроения большой (может быть, большей) части русского дворянства, сильно недовольного и напуганного либеральной политикой молодого императора. В конечном итоге эти настроения, особенно после 1812 года, победили, и спасительные реформы отодвинулись на 50 лет. Не будь этого, Россия, возможно, избежала бы катастрофы 1917 года, последствия которой она продолжает безуспешно расхлебывать. Большую роль в победе этой консервативной идеологии сыграла деятельность «Беседы».
Ну и, конечно, меня привлекали колоритные личности деятелей и основателей влиятельного и авторитетного литературного объединения. Величественный поздний Державин, яркий публицист и оригинальный филолог Шишков, мудрый и очень консервативный Крылов, талантливые поэты Ширинский-Шихматов и Анна Бунина и, наконец, мой давний любимец Дмитрий Иванович Хвостов, который вовсе не был такой жалко-смешной однозначной фигурой, каким он обычно представлялся историкам, и о котором талантливую и остроумную книгу выпустил недавно филолог Илья Виницкий.
А какие еще темы для вас важны?
Помимо литературы XVIII века, я много занимался литературой первой половины XIX, Пушкиным, о котором написал книгу, декабристами. Когда мы оказались на Западе, то, оглядываясь на наше прошлое, написали с Еленой Дрыжаковой книгу о советской литературе «оттепели» — «Путь отречения» (1985). О советской литературе я потом немного писал. Очень люблю «Москву — Петушки» (вспомнил в связи с недавним 80-летним юбилеем Венедикта Ерофеева). По странной прихоти судьбы я впервые прочел ее в Польше в хорошем переводе на польский. На этом языке очень адекватно выглядела алкогольная тематика. Поляки напечатали ее гораздо раньше, чем в России. Потом, уже в Америке, я написал неплохую, кажется, статью «„Москва — Петушки” и традиции классической поэмы». Многое еще было интересно.
А чем занимаетесь сейчас?
Вновь обратился к моему давнему любимцу Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру. В последнее время написал о нем полдюжины статей. Последняя («Пущин и Кюхельбекер: миф о лицейской дружбе») выходит на днях в НЛО. Что дальше — не знаю. Может быть, Пушкин…