«Харизма стала частью селебрити-культуры»
Интервью с исследователем «духовного вождизма» Вячеславом Ячмеником
Почему личная харизма становится частью церковного служения, что вообще значит этот термин в контексте христианских церквей и как РПЦ пыталась определить место женщин в своей иерархии накануне Октябрьской революции? Об этом с автором книги «Духовные вожди» Вячеславом Ячмеником поговорил Филипп Никитин.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Вячеслав Ячменик. «Духовные вожди»: понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
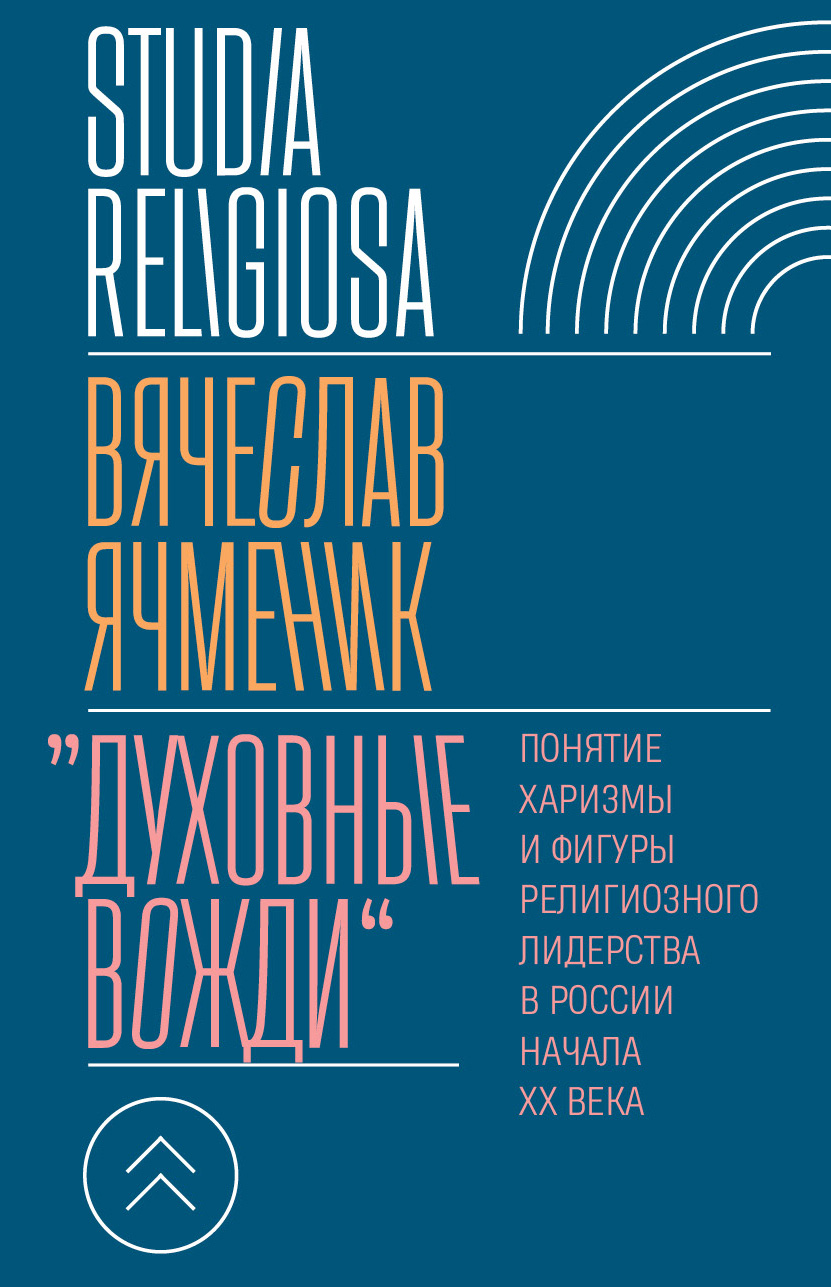
— Вы научный сотрудник Лаборатории исследований церковных институций Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в этом месте.
— Я работаю в секции исследований религиозного лидерства. Нас прежде всего интересуют вопросы о том, в чем заключается специфика именно религиозного лидерства, чем оно отличается от других форм власти и какие его типы можно обозначить. Наша, как мы говорим, «сверхзадача» — выработка новых исследовательских вопросов и подходов к анализу религиозной власти.
Я пришел в лабораторию, когда Российский научный фонд выделил финансирование на проект «Категории религиозного лидерства в эпоху модерна». Мое исследование сформировалось в течение пяти лет работы над этим проектом.
Мои коллеги в рамках проекта занимались разными темами: одни изучали становление институциональной логики религиозного лидерства в Новое время, другие — процессы харизматизации в современном католицизме, развитие лидерства в русском неохаризматизме или логики самоописания священников РПЦ.
Наш основной фокус — культурные истоки оппозиции личности и института в религиозном лидерстве. Широкий — и хронологически, и контекстуально — охват темы позволил нам показать, что это противопоставление хотя и считается базовым для изучения религии, на самом деле подвижно. Оно наполняется разными смыслами в зависимости от общей логики осмысления религиозной власти в конкретной историко-культурной ситуации. Даже в рамках одной эпохи, например модерна, логика осмысления может существенно различаться на раннем и позднем этапах.
Мы также изучаем и иногда даже публикуем христианские тексты поздней Античности и Византии. Недавно, кстати, мои коллеги подготовили перевод книги Питера Брауна «Мир поздней Античности» — важной работы, оказавшей большое влияние на современное представление об этом периоде.
— В основе вашей книги — кандидатская диссертация, защищенная в конце 2023 года. Какие изменения и дополнения были сделаны?
— Во многом благодаря научному редактору Алексею Львовичу Беглову я существенно расширил фактический материал, касающийся исторического контекста, переработал введение и заключение.
Была дополнена первая глава в части, посвященной дискуссиям о харизме в трудах протестантских исследователей. Речь идет о достаточно хорошо известных для любого историка протестантизма рубежа XIX-XX веков сюжетах, однако в отечественной историографии они до сих пор слабо освещены. Я постарался представить их как можно более подробно, дополнив устоявшиеся научные интерпретации некоторыми своими наблюдениями. На дискуссии протестантских ученых я смотрел сквозь призму их восприятия русскими авторами начала XX века. Поэтому состав источников у меня частично отличается от тех, что традиционно фигурируют в распространенных англоязычных и немецкоязычных обзорах.
Главное изменение в исследовании заключается в том, что я сместил историко-понятийный фокус: вместо того чтобы сосредотачиваться на борьбе вокруг значения понятия харизмы, я стал исследовать, как это понятие использовалось в дискурсе эпохи для конструирования фигур религиозного лидерства — старцев, пророков и других «духовных вождей». Дополнительный импульс к такому повороту дало чтение книги Делеза и Гваттари «Что такое философия?». Особенно меня заинтересовала их идея связи между концептом и концептуальным персонажем. Уже после защиты диссертации эта мысль вдохновила меня — пусть и не вполне в духе авторов — на попытку выстроить связь между историей понятия и историей фигур, через которые артикулировался дискурс о власти.

— Расскажите, пожалуйста, о понятии «харизма» и смыслах, которые вкладываются в это слово.
— У понятия «харизма» богатая longue durée. Это слово впервые использовал апостол Павел для обозначения конкретных церковных служений. Причем речь шла не только о пророчестве, апостольстве или пастырстве, но и о различных формах диаконии, чудотворении и «говорении на языках». Все это разнообразие даров объединяет одно: каждый из них должен быть направлен на благо церковной общины. Иными словами, харизма изначально имеет коммунитарную природу и неразрывно связана с призванием.
В дальнейшем понятие харизмы оказалось в центре многих богословских и интеллектуальных дискуссий. Так, в эпоху Просвещения оно приобрело значимость в контексте спора о природе евангельских чудес: совершались ли они в действительности, и если нет — как тогда следует понимать само понятие «харизма». Харизма также оказалась важным элементом в предыстории пятидесятничества и, наконец, стала ключевой в дискуссии историков рубежа XIX и XX веков о том, кто именно в древней церкви имел основанную на харизме власть.
Особое значение в истории этого понятия принадлежит Максу Веберу, которому мы во многом обязаны его распространением не только в академической среде, но и в языке широкой культуры. Вебер рассматривает харизму в двух ключевых перспективах: как тип легитимации господства — наряду с традиционным и рационально-легальным (эта перспектива особенно важна для анализа политических процессов) — и как социологическую категорию, применимую к описанию религиозной жизни. В своем исследовании я опирался прежде всего на вторую перспективу, поскольку именно она содержит важную для моего анализа оппозицию личной и должностной харизмы как идеальных типов. У Вебера носителями этих типов выступают, соответственно, пророк и священник. Однако меня интересовала эта дихотомия не столько как методологический инструмент, сколько как историографическая конструкция, сформированная в определенном историко-культурном контексте. Я рассматривал ее как объяснительную модель, с помощью которой современники артикулировали и осмысляли собственную религиозную ситуацию. В русском контексте спор о личной и должностной харизме стал частью более широкой дискуссии о природе церковной власти: кому она по праву принадлежит и как должна распределяться между ее носителями — между теми, кто обладает должностью (епископами и священниками), и теми, кто претендует на харизматический авторитет (старцами, общественными деятелями, носителями пророческого дара).
Сегодня понятие харизмы все чаще смешивается с понятием популярности. Харизма стала частью лексикона селебрити-культуры. Многие социологи считают это отрывом от изначального смысла — и я с ними согласен. В религиозном же контексте эти изменения ощущаются еще более болезненно, поскольку харизма из дара для общины превратилась в индивидуальное обаяние, способное монетизироваться.
— В книге вы пишете, что история этого понятия была связана «с более масштабным интеллектуальным процессом развития религиозно-философских концептов в социогуманитарных науках на рубеже XIX и XX веков в виде прямой рецепции, трансфера идей или общего стиля мышления». Расскажите об этом процессе.
— Ярким примером процесса, о котором я говорю, являются сюжеты недавней книги моих коллег из ПСТГУ — «Мышление бытия и вера Откровения в немецкоязычной теологии и русской религиозной мысли конца XIX-XX веков». История понятия харизмы однако может быть рассмотрена не только в рамках философско-теологического диалога, но и в более широком интеллектуальном контексте, охватывающем богословие, социологию и историю. На рубеже XIX-XX веков формируется общее проблемное поле: поиск новых оснований для религиозной власти и кризис традиционной иерархии. В различных дисциплинарных и конфессиональных контекстах появляются схожие концепты — и понятие харизмы одно из них. Это понятие становится своего рода точкой пересечения между религиозной традицией и языком социальных наук.
Меня особенно интересовало, как эти концепты функционировали в разных академических культурах — национальных и конфессиональных. В русской мысли — начиная еще со славянофилов — важным был вопрос о самобытности и, соответственно, об источниках влияния. В истории русской религиозной мысли это стало своего рода «норманнским вопросом». Но история рецепции западных богословских идей в России — это не только история заимствования, но и трансформации. Именно так произошло, например, с концепцией «харизматической организации» Рудольфа Зома. Его работа «Церковное право» была быстро переведена, получила отклик в академической среде, но в русской церковной историографии ее идеи приобрели особый смысл. Это типичный случай культурного трансфера — в терминах Мишеля Эспаня.
Но помимо прямой рецепции и трансляции идей существовал и определенный общий стиль мышления эпохи. Это уже вопрос эпистемологии: почему именно харизматическая власть оказалась такой значимой категорией? Почему интерес мыслителей вызывают фигуры пророка и старца? В русле этих вопросов работает, например, Сергей Александрович Воронцов, рассматривая религиозное лидерство сквозь призму «стилей мышления». Здесь, как мне кажется, заложен значительный потенциал для дальнейших исследований.

— Когда я прочитал название вашей книги и аннотацию, я вспомнил исследовательницу Ирину Пярт. В своей работе вы ссылаетесь на ее книгу «Духовные старцы: харизма и традиция в русском православии». Что общего у вашей книги с ее монографией? Поделитесь вашим мнением о научных текстах этой исследовательницы.
— Монография Ирины Пярт является для многих отправной точкой для изучения феномена старчества в русском православии. Чтобы выявить специфику этого социального феномена, она рассмотрела его с точки зрения концепций харизмы и традиции. По Веберу, эти два феномена должны быть противопоставлены, однако исторический материал показывает иную ситуацию: старцы, оставаясь носителями харизмы, никогда не противопоставляли себя традиции (по крайней мере, на уровне своего нарратива). Я бы сказал, что наш подход с Ириной Петровной соотносится так, как соотносятся социальная история и история понятий: она исследует социальные феномены, я — понятийный аппарат, через который эти феномены понимались. Следуя логике Райнхарта Козеллека, я убежден, что оба подхода не исключают, а дополняют друг друга.
В настоящее время Ирина Петровна занимается изучением специфики православия в странах Балтийского региона. Я внимательно слежу за ее исследованиями, поскольку они затрагивают важные вопросы реализации соборности, а также памяти о мученичестве и репрессиях.
— В книге вы упоминаете диаконисс как фигур религиозного лидерства. Расскажите, какое положение занимали женщины в православной церкви на закате Российской империи?
— Закат Российской империи стал для женщин в церкви одним из важнейших периодов. Причина заключалась не в ослаблении политических институтов, а в закономерном развитии общества — я считаю, что, если бы последствия революции не были столь радикальными, положение женщин могло бы быть гораздо более благоприятным. Из различных исследований известно, что многие в Русской церкви выступали за возрождение чина диаконисс и предоставление женщинам возможности выполнять определенные литургические функции. Этот вопрос обсуждался на Соборе 1917-1918 годов, однако последовавшие антирелигиозные репрессии помешали воплотить эти инициативы в жизнь. Параллельно с такими масштабными дискуссиями фактическое участие женщин в церковной жизни росло само собой: именно в этот период переживало расцвет женское монашество, женщины начали петь в церковных хорах, а на женских курсах преподавались богословские дисциплины — преподавателями которых были некоторые герои моей книги.
Доступ к образованию и вовлечение женщин в церковную жизнь еще не означали признания их религиозного лидерства. На «официальном» уровне такое лидерство было сложно представить в культуре рубежа XIX-XX веков. В то же время в обществе набирали популярность теории матриархата, а фигура отца, напротив, подвергалась критике — идеи Фрейда здесь лишь верхушка айсберга. Церковные историки обнаруживали новые памятники древнецерковной традиции, связанные с женскими служениями, которые пока еще было непросто однозначно интерпретировать. Меня заинтересовало, как в этом контексте возникает понятие харизмы, позволяющее описать особое властное положение женщины, служащей в церкви. Кто-то из церковных историков был твердо убежден в том, что существовала борьба за власть между церковными вдовами и мужчинами-епископами, в которой женщины проиграли. Другие историки такие теории рьяно критиковали, обвиняя своих оппонентов в том, что они смотрят на источники «в немецких очках». Думаю, что тех и других прежде всего волновало одно: возрождение интереса женщин к активной роли в церковной жизни и опасение, что отсутствие богословского осмысления этого явления может привести к кризису.
Одним словом, женское религиозное лидерство если и не существовало в реальности начала XX века, то в историческом воображаемом обосновалось достаточно прочно.
— Допустим, вы зашли в книжный магазин и к вам обращается посетитель, которому примерно 25 лет. Он говорит: «Хочу понять, что такое православие». Какие книги вы посоветовали бы ему прочитать?
— Для меня первой общей книгой о православии стала работа митрополита Каллиста (Уэра) «Православная Церковь». Именно ее я рекомендовал бы в качестве вводного обзора, надеясь, что мое первое впечатление от книги не оказалось обманчивым (ее я не перечитывал). Далее я советовал бы обратить внимание на книгу «Богословские портреты» протоиерея Павла Хондзинского, чтобы понять как православное богословие встретилось с эпохой модерна. После этого важно было бы ознакомиться с православными бестселлерами России начала XX века — со «Столпом и утверждением Истины» Флоренского и «Светом Невечерним» Булгакова. После всего этого, чтобы немного прийти в себя, можно читать «Путь ко спасению» Феофана Затворника.
— Какие книги, прочитанные в этом году не в рамках научной деятельности, особенно запомнились вам?
— Именно в этом году интеллектуальным приобретением стало для меня чтение монографий «Эротическая утопия» Ольги Матич и «Тайны души» Эли Зарецки. Первая книга позволила взглянуть на русский религиозный ренессанс с точки зрения декадентской культуры и ключевых тропов эпохи fin de siècle. Вторая — навела в моей голове порядок в отношении истории психоанализа во всем многообразии его идей, направлений и внутренних дискуссий. Зарецки впечатляет своей феноменальной детализацией, и меня особенно вдохновило, как он вписал развитие идей Фрейда в контекст социальной и культурной истории.
Если говорить о художественной литературе этого года, то особое впечатление оставили «Повелитель мух» и «Чапаев и Пустота». Книгу Пелевина я пока дочитываю, но обрел уже достаточно впечатлений. А к «Повелителю мух» я обратился после просмотра сериала «Шершни». Кстати, и книга, и сериал много рассказывают о том, как формируется харизматическая власть в политическом контексте.