Вы еще не знаете Фемистоклюса
Почему русские классики не любили детей
Вопрос о чадолюбии и вообще отношении к детям и детству в русской классике весьма неоднозначный. С одной стороны, в XIX веке детство уже вроде бы «изобрели»: поначалу догадывались, а потом полностью утвердились во мнении, что ребенок — не недоразвитый взрослый, а сложный, неоднозначный и хрупкий мир, нарушить и разрушить который так просто, а взрастить в нечто достойное — так тяжело. При этом в просвещенном и гуманистическом XIX веке великой русской литературы о детях говорится не так много, и еще меньше — о сложных и противоречивых отношениях родителях к детям и об их любви.
Здесь, пожалуй, стоит разделить две стороны вопроса: во-первых, как представлены сами дети в произведениях русской классической литературы, и, во-вторых, каковы были родительско-детские отношения в ней же. В предыдущем XVIII веке детей в литературе было совсем мало: в классицизме детям как существам не героическим и не обладающим властью путь в персонажи трагедий был заказан; в редких случаях они появлялись в комедиях (вспомним Д. И. Фонвизина с его Митрофанушкой из «Недоросля»). Однако детский мир как таковой не был объектом авторского интереса: ребенок мыслился как tabula rasa, на которой родители имели власть выводить собственные добродетели и чаще — пороки (все же речь о комедиях!), так что детские персонажи, наравне со взрослыми, служили назидательными примерами для читателей.
Транслировать свои соображения о теории воспитании детей авторы художественных текстов продолжили и в XIX веке. Таковы, например, «Отрывки из дневника Машеньки» В. Ф. Одоевского — не совсем ловкая попытка образованного князя выдать свои теоретические соображения о разумной педагогике (например, о необходимости прививания бытовых навыков дворянским детям) за дневник десятилетней девочки. «Отрывки из дневника» остались сухим и скучноватым назидательным трактатом. Если же вспомнить большую часть произведений русской литературы, где фигурируют дети и их родители, становится очевидно: абсолютному большинству авторов-мужчин дети и вопросы их воспитания были неинтересны (о крупных и очевидных исключениях в виде Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского вспомним чуть позже).
Так, И. С. Тургенева дети интересовали, пожалуй, только в виде девушек, доросших до пубертата и дальше. Отношения юных тургеневских героинь с родителями обычно прохладные (читатель видит вариации на тему «она в семье своей родной казалась девочкой чужой»), как у Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде» или у Елены Стаховой в романе «Накануне». «В последнее время она обходилась с матерью как с больною бабушкой», — сообщает читателям Тургенев о Елене. Близости между ними и не было — мать «поручила докончить воспитание своей дочери» гувернантке, причем воспитание это было даже и не начато «скучавшей барыней». Иногда мать вовсе отсутствует (как у Катерины, сестры Анны Сергеевны Одинцовой, в «Отцах и детях»). Редкий пример собственно детских образов у Тургенева — мальчики из «Бежина луга», — во-первых, показаны вне отношений со взрослыми, а, во-вторых, больше относятся к милым и самобытным явлениям природы, чем к людям.
Порой отсутствие интереса к детям подчеркивается авторами как привычная закономерность; люди (по крайней мере, в первой трети XIX века) вполне успешно вырастали, развивались, взрослели и вступали в мир и без чрезмерного родительского вмешательства. Так, Петруша Гринев из «Капитанской дочки» отлично жил на попечении дядьки и гувернера (причем последний больше интересовался горячительными напитками местного производства и «прекрасным полом»). Нельзя отказать себе в удовольствии еще раз перечесть множество раз читанное:
«С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу».
Позже батюшка главного героя обращается к матушке с вопросом «а сколько лет Петруше?», что красноречиво свидетельствует о степени внимательности родителя к чаду. Впрочем, как мы знаем, из Петруши и без чрезмерной родительской заботы вырос хороший человек. Может быть, русская классическая литература подспудно транслирует мудрость о том, что чадолюбие вовсе не равняется гиперопеке и перегруженному учебному графику?
Строки о неизбыточном воспитании юного Евгения Онегина все помнят наизусть:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l’Abbe, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя…
Возможно, эта умеренная забота о собственных детях касалась прежде всего начала XIX века; со второй половины внимание к детству и вопросам родительской любви усиливается. В этом отношении интересен комментарий Анны Ахматовой, заметившей, что пристальный интерес Наташи Ростовой-Безуховой к своим детям не более чем анахронизм, допущенный Л. Н. Толстым, который «никогда не занимался… исторической стилизацией».
«Высшее общество в „Войне и мире” изображено современное ему (Толстому — С. В.), а не александровское… При Александре, например, оно было гораздо образованнее, чем потом. Наташа — если бы он написал ее в соответствии с временем — должна была бы знать пушкинские стихи… И, разумеется, никаких пеленок: женщины александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы и сами детей не нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки, потому и Наташа», — говорила Ахматова в пересказе Лидии Чуковской.
Некоторым писателям (здесь, пожалуй, стоит отметить их бездетность) чужие дети были несимпатичны, а то и вовсе раздражали — что заметно и по персонажам. Таковы немногочисленные детские образы в произведениях Гоголя, среди которых самые запоминающиеся — дети помещика Манилова из «Мертвых душ», Фемистоклюс и Алкид. Мало того что автор назначил им дикие имена (да еще и прибавил латинский суффикс к греческому корню), оба брата выглядят в книге отстающими в развитии, а уж «препорядочную постороннюю каплю», грозящую упасть из носа Фемистоклюса в тарелку с супом, помнят все читатели.
Даже нежное отношение отца-Манилова к своим детям не добавляет симпатии этим персонажам: старший Манилов явно глуп, и от его детей ума и обаяния тоже ждать нечего:
«— О, вы еще не знаете его! — отвечал Манилов. — У него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс! — продолжал он, снова обратясь к нему. Хочешь быть посланником?
— Хочу, — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.
В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля».
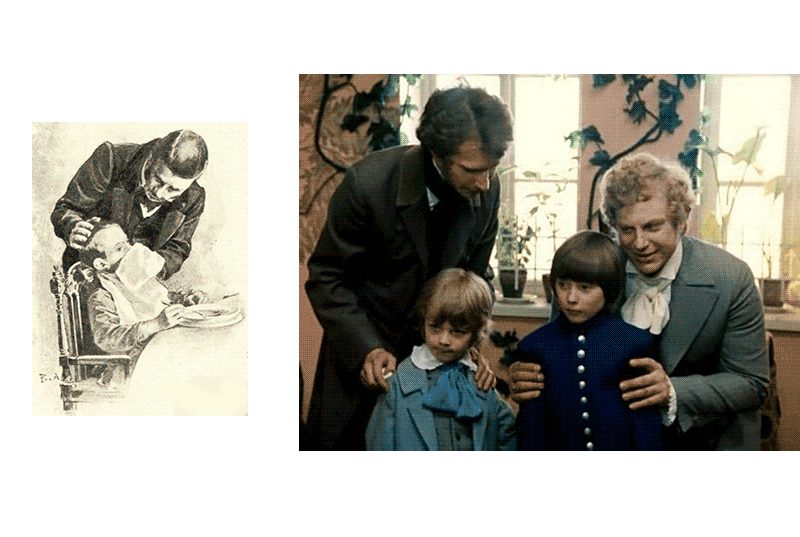 Это явное отсутствие симпатии Гоголя к детям отметил в свое время и В. В. Розанов, описавший детей Манилова так: «жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто никогда не издевался».
Это явное отсутствие симпатии Гоголя к детям отметил в свое время и В. В. Розанов, описавший детей Манилова так: «жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто никогда не издевался».
Немногим лучше выглядят детские персонажи у А. П. Чехова, однако здесь стоит отметить известную справедливость этого автора, равно не чувствовавшего особенного оптимизма по отношению ко всему роду человеческому — как к взрослым, так и к детям. О чадолюбии героев Чехова упоминать даже неловко: в рассказе «В овраге» одна из героинь обваривает родного племянника-младенца кипятком; несчастная девочка в рассказе «Спать хочется» душит оставленного на ее присмотр ребенка подушкой, потому что ей хочется спать; известный Ванька, замученный взрослыми и пишущий «на деревню дедушке», убог, несчастен и жалок.
Персонажи чеховского рассказа «Детвора» (явно отсылающего к «дагерротипическим» зарисовкам натуральной школы) — дети только по возрасту и наименованию: их интересы, страсти, манеры и поведение совершенно как у взрослых людей, суетных, глуповатых, легкомысленных, честолюбивых, жадных, разве что еще не столь лицемерных. В рассказе дети играют в лото, и мальчики сильно напоминают взрослых чиновников за карточной игрой:
«Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами… Играет он исключительно из-за денег… Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться… Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман… Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты… По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого».
Девочки же тщеславны, похожи на кукол, и ведут разговоры взрослых пошлых женщин:
«Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры… — Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Соня. — Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке… И мне стало так неприлично!»
По словам Михаила Чехова, прототипами героев рассказа «были очаровательные дети… с которыми сдружился… брат Антон Павлович». И если к этим детям Чехов относился хорошо, тревожно представить, как бы он описывал неприятных ему созданий.
Отчужденность и равнодушие, царящие в художественном мире Чехова (прежде всего со стороны сильных — к слабым и бесправным), касаются и отношений родителей к детям. Родители Екатерины «Котика» Ивановны в «Ионыче» — милые, неталантливые и немного бестолковые обыватели, не сумевшие или не озаботившиеся дать дочери надлежащее образование и привить разумное отношение к жизни. Отец главного героя в «Моей жизни» и вовсе холодный жестокий деспот, продолжающий мучить своих уже выросших детей.
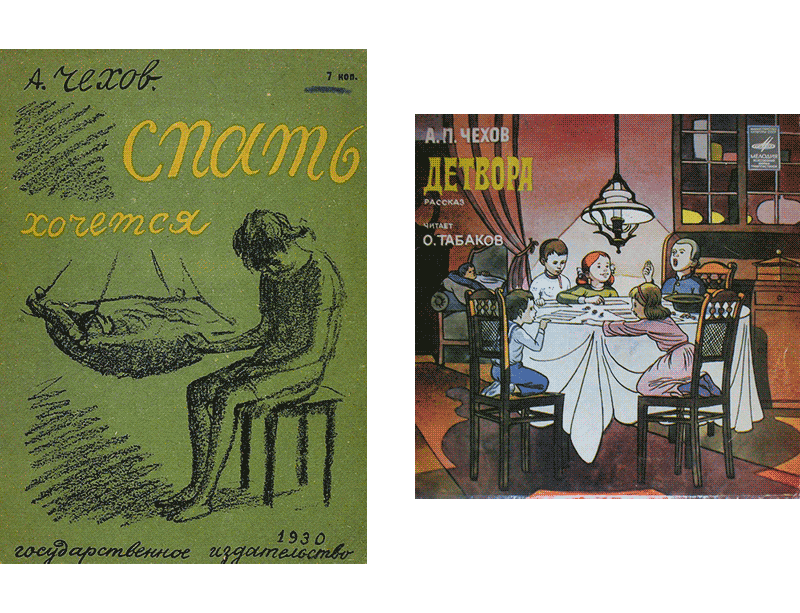 Любопытно, что даже в литературе «реалистического» направления дети часто представлены лишь как закономерный продукт воспитания родителей и воздействий среды. Необходимость (или желание) показать влияние «типических» обстоятельств и окружения на индивидуум приводят иногда к несколько одностороннему объяснению того, почему из ребенка выросло именно это, а не иное. Так, совершенно волшебная глава о детстве Ильи Ильича Обломова сводится в сухом остатке к тому, что живой и любознательный ребенок может быть начисто лишен активного начала чрезмерной любовью и заботой. (Но плоха и другая крайность, предупреждает нас автор: маленький Штольц не вырос бы таким удачным только под жестким воспитанием отца-немца без смягчающего влияния обломовской усадьбы.)
Любопытно, что даже в литературе «реалистического» направления дети часто представлены лишь как закономерный продукт воспитания родителей и воздействий среды. Необходимость (или желание) показать влияние «типических» обстоятельств и окружения на индивидуум приводят иногда к несколько одностороннему объяснению того, почему из ребенка выросло именно это, а не иное. Так, совершенно волшебная глава о детстве Ильи Ильича Обломова сводится в сухом остатке к тому, что живой и любознательный ребенок может быть начисто лишен активного начала чрезмерной любовью и заботой. (Но плоха и другая крайность, предупреждает нас автор: маленький Штольц не вырос бы таким удачным только под жестким воспитанием отца-немца без смягчающего влияния обломовской усадьбы.)
«Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут… Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к матери… Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела его к образу.
…Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошеных поцелуев».
Жители Обломовки и окрестностей знали толк в выращивании детей — и в их цели вовсе не входило воспитание будущих петербургских чиновников или купцов, так что плохи выросшие обломовские дети были лишь с точки зрения вечно суетящегося Штольца и ему подобных:
«Ребенка ли выходить не сумеют там? Стоит только взглянуть, каких розовых и увесистых купидонов носят и водят за собой тамошние матери. Они на том стоят, чтоб дети были толстенькие, беленькие и здоровенькие».
Однако же, несмотря на очевидную мораль, Илья Ильич вырос прекрасным человеком: испортить натуру любовью невозможно — и оспаривать это не стали бы самые тенденциозно настроенные писатели.
Настойчивость русских авторов XIX века объяснять тонкие психологические явления и черты характера героев в рационалистическом и почти позитивистском ключе кажется удивительной. Любовь — христианская ценность сама по себе — оказывается недостаточной: безграничная любовь родни и домочадцев к ребенку и его полное «принятие» могут, выходит, помешать взращению из него счастливого человека и эффективного гражданина. Необходима разумная организация домашней жизни и здоровая социальная среда.
Эту мысль о недостаточности родительской любви высказывает и Г. И. Успенский в рассказе «Отцы и дети (Время до и после Севастопольской войны)». Титулярный советник Иван Матвеевич Руднев «не хотел дать сыну своему печального детства… при этом он не думал о развитии его, ибо никогда не слыхал такого слова, не думал подмечать те или другие его наклонности, потому что никогда бы не подметил их».
В рассказе Успенский часто переходит в прямую дидактичность:
«Делалось все для Павлуши, говорилось только о нем и о желании ему всяких благ, — а между тем в настоящую пору, когда он имеет время сознательно припомнить свое пряничное детство, ему видится несчастье, корень всяких бед именно в этой безграничной и крайне беспутной любви, которая окружала его. Хороша награда за родительские ласки! Отец, целые дни занятый на службе, принужден был ограничивать изъявления своей любви покупкою игрушек; игрушки эти были всегда дорогие и самые лучшие, — лучше их уже не было; но они почему-то скоро бросались Пашей… Целые дни, по уходе отца в должность, Павлуша оставался на руках матери, которая тоже каждую минуту готова была положить за него жизнь и, как будто в силу этой безграничной любви, старалась очистить голову сына от всякой работы. При этом она руководствовалась тем же правилом, как и другие; у других главным достоинством в детях считалось — чтобы они не мешали и не шумели».
Гораздо более мрачные последствия приносит отсутствие родительской любви — и, конечно, снова нездоровая социальная среда (без среды в реализме никуда). Самые чудовищные картины мира без родительской любви рисует нам, как обычно, Салтыков-Щедрин. У Арины Петровны Головлевой
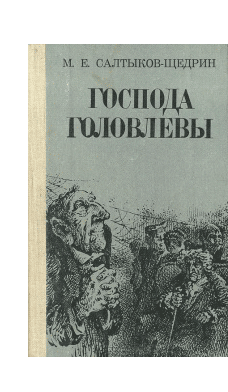 «была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы… В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрогивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем ныне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась».
«была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы… В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрогивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем ныне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась».
Не многим лучше были и отношения отца к детям, даже к любимчику «Степке-балбесу». Красноречивым свидетельством семейных отношений выступают такие зарисовки:
«…во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось „ведьме”, то есть Арине Петровне. Но „ведьма” словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса… — Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна. — Убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!»
И Щедрин не был бы Щедриным, если бы сейчас же не сообщил читателям неизбежное следствие подобного родительского отношения:
«Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками».
Что выросло из другого сына Арины Петровны — «Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика», — все помнят. Не менее мрачно и отношение матери в автобиографическом романе Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». Мать там выписана совершенным садистом по отношению к детям, отец — посторонним, а физическое и нравственное воспитание подрастающего поколения построено так, чтобы из них не могло вырасти ничего здорового.
«Помнится родительское равнодушие… Об опрятности не было и помина. Детские комнаты… были переполнены насекомыми и нередко оставались по нескольку дней неметенными, потому что ничей глаз туда не заглядывал; одежда на детях была плохая и чаще всего перешивалась из разного старья или переходила от старших к младшим; белье переменялось редко. Прибавьте к этому прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань, распространявшую запах, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились с утра до вечера дворянские дети.
…То же можно сказать и о питании; оно было очень скудное. В семействе нашем царствовала не то чтобы скупость, а какое-то упорное скопидомство… Всегда казалось мало, и всего было жаль.
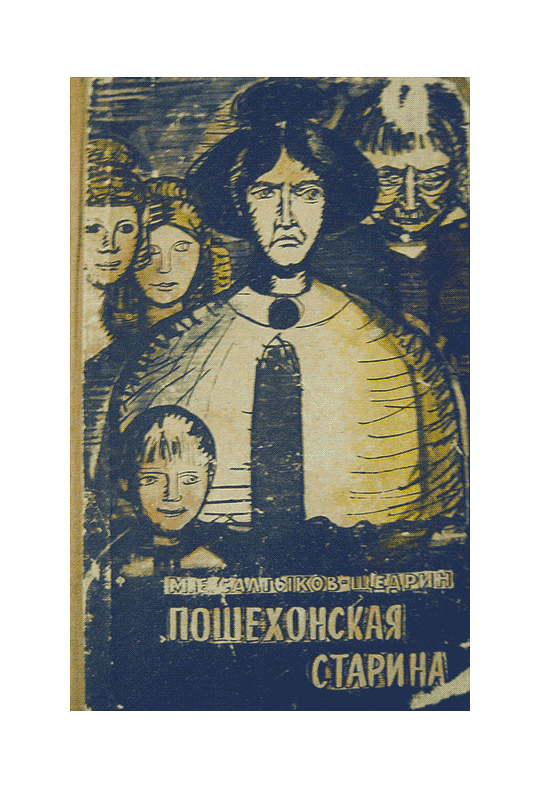 …Ни отец, ни мать не занимались детьми, почти не знали их. Отец — потому что был устранен от всякого деятельного участия в семейном обиходе; мать — потому что всецело была погружена в процесс благоприобретения. Она являлась между нами только тогда, когда, по жалобе гувернанток, ей приходилось карать. Являлась гневная, неумолимая, с закушенною нижней губою, решительная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не считать лаской те безнравственные подачки, которые кидались любимчикам, на зависть постылым.
…Ни отец, ни мать не занимались детьми, почти не знали их. Отец — потому что был устранен от всякого деятельного участия в семейном обиходе; мать — потому что всецело была погружена в процесс благоприобретения. Она являлась между нами только тогда, когда, по жалобе гувернанток, ей приходилось карать. Являлась гневная, неумолимая, с закушенною нижней губою, решительная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не считать лаской те безнравственные подачки, которые кидались любимчикам, на зависть постылым.
Вообще телесные наказания во всех видах и формах являлись главным педагогическим приемом. К сечению прибегали не часто, но колотушки, как более сподручные, сыпались со всех сторон, так что „постылым” совсем житья не было.
Но ежели несправедливые и суровые наказания ожесточали детские сердца, то поступки и разговоры, которых дети были свидетелями, развращали их. К сожалению, старшие даже на короткое время не считали нужным сдерживаться перед нами и без малейшего стеснения выворачивали ту интимную подкладку, которая давала ключ к уразумению целого жизненного строя».
Если хоть часть этих описаний детства соответствует тому, что происходило в семье маленького Салтыкова, стоит ли удивляться, что из него получился самый желчный сатирик русской литературы (который, если снова вспомнить В. В. Розанова, «как матерый волк, напился русской крови и сытым отвалился в могилу»).
Обстановка детства Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева была менее мрачной (на этом поприще Щедрин не имеет конкурентов), но имела не менее трагичные последствия: выросший без родительской любви ребенок, окончательно сбитый с толку попеременно бестолковым воспитанием и отсутствием такового, не сможет обрести счастье во взрослой жизни.
«Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась; он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно: память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце; но он смутно понимал ее положение в доме; он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его; дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: „Куда? Сиди смирно”.
…Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы.
Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. „Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme, — сказал он Глафире Петровне, — и не только человека, но спартанца”. Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски… По-русски Федя говорил отцу: „ты”, но в его присутствии не смел садиться. „Система” сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее… Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, — и молодой спартанец, с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым».
Подобная авторская тенденциозность (даже такая гениальная и обаятельная, как у Гончарова) почти исчезает в автобиографических романах о детстве (за исключением, пожалуй, упомянутой «Пошехонской старины»). Вспоминая собственное детство и семью, писатели дают более или менее всесторонний анализ того, что влияло, поражало, радовало и оскорбляло их маленьких, а взрослая рефлексия и анализ добавляют глубины и сложности образу. Кроме того, в своих (квази) автобиографиях авторы добавляют нечто, «работающее» против реалистического направления и изображения «типических характеров в типических обстоятельствах» — а именно устойчивость, резистентность героя к этим обстоятельствам. Взрослый литератор, описывающий детство, неизбежно показывает, каким образом юный герой оказался непохожим на других, весь спектр уникальных деталей быта, окружения, его внутреннего мира.
В этом отношении одно из лучших произведений о детстве в русской литературе — «Детство Темы» Гарина-Михайловского. Помимо действительно чудовищного (в прямом смысле слова кошмарного) эпизода с Жучкой, «Детство Темы» — тонкое психологическое описание и анализ взросления умного, нервного, чувствительного и талантливого ребенка, его отношений с родителями, семьей, товарищами, слугами, да со всем миром. Страстная любовь тонко чувствующей, умной, эмоциональной матери (маленький герой явно похож на нее), попытки сурового и живущего по правилам военной дисциплины отца закалить характер впечатлительного Темы — все это иногда кажется слишком тяжелым грузом для него, и он «с завистью смотрит на… простые, несложные отношения» своего ровесника с родителями — кучером и судомойкой.
 В романах Достоевского дети и детский мир так важны, что не хотелось бы описывать их поверхностно. Из наличия или отсутствия родительской любви автор не делает однозначных выводов: внутренний мир героя (и ребенка, и взрослого) и его идеи здесь первенствуют и не определяются внешней средой. Пульхерия Александровна Раскольникова любит и Родю, и Дуню; штабс-капитан Снегирев из «Братьев Карамазовых» любит сына Илюшу. Федор Павлович Карамазов к детям, напротив, совершенно равнодушен (характерно название одной из глав книги — «Первого сына спровадил»).
В романах Достоевского дети и детский мир так важны, что не хотелось бы описывать их поверхностно. Из наличия или отсутствия родительской любви автор не делает однозначных выводов: внутренний мир героя (и ребенка, и взрослого) и его идеи здесь первенствуют и не определяются внешней средой. Пульхерия Александровна Раскольникова любит и Родю, и Дуню; штабс-капитан Снегирев из «Братьев Карамазовых» любит сына Илюшу. Федор Павлович Карамазов к детям, напротив, совершенно равнодушен (характерно название одной из глав книги — «Первого сына спровадил»).
На всем этом фоне безусловным исключением видятся герои произведений Л. Н. Толстого. В его романах детей любят все: кажется, автор не мог бы и представить, как это — не любить детей. Чадолюбивы Ростовы, и родители, и позже — выросшие Наташа и Николай. Обожает своих детей суровый князь Николай Андреевич Болконский, и даже его третирование княжны Марьи происходит от безграничной отеческой любви. Любит своих детей, Элен и Анатоля, и князь Василий Сергеевич Курагин, несмотря на свое лукавое признание в отсутствии «шишки родительской любви». Княгиня Друбецкая идет на всевозможные унижения, чтоб устроить своего сына Бориса. Не намного отстают в родительских чувствах и герои других книг Толстого. Впрочем, придется повторить: тотальное чадолюбие героев Толстого остается красноречивым исключением в русской литературе.
Отчего так вышло, что дети — вроде бы одна из высоких и центральных ценностей рода человеческого — описаны русской классической литературой с такой недоверчивостью, с осторожным и при этом не слишком доброжелательным вниманием?
Гипотезы на этот счет можно строить разные. Например, бытовые: возможно, литераторы-мужчины, которых было подавляющее большинство, не занимались вопросами воспитания собственных детей, а рубеж взросления проходил относительно рано — дети быстро вырастали, отправлялись в учебные заведения или военную службу и скоро покидали дом, не успевая как следует озадачить автора-отца. Возможно, близкие отношения отцов и детей не поощрялись, и писатели не считали тему взросления и взаимоотношений в психологической плоскости достойной подробного описания, выводя ее в сферу социальных отношений (как в тургеневских «Отцах и детях»).
Возможна причина — более соответствующая облику и проблематике русской литературы — идеологическая. По остроумному предположению одного современного философа, роль детей в отечественной литературе традиционно играют чистые сердцем и душою юродивые и «идиоты». В самом деле: дети прекрасны, милы и (при правильном воспитании) добры, подают большие надежды на будущее. Однако эти надежды редко оправдываются — и об этом помнят все. Отсюда происходят вечное беспокойство и недоверие писателей детским образам: родительское счастье вскоре обернется жестоким разочарованием, и если родители слепы в своей любви, то остальные не могут заблуждаться на этот счет. С другой стороны, князь Мышкин и ему подобные герои русской литературы — вечные дети, чистые, искренние, доверчивые и мудрые, они вызывают в окружающих такую же чистую любовь и доверие. Их высокие «детские» качества не обманут, не исчезнут со взрослением (которое никогда не произойдет). Их сломает мир, и вот этот трагический конфликт вечно-детского и силы вещей более интересен для литературы.