Все связано с Юрием Трифоновым
Интервью с Юрием Слезкиным
Одна из центральных идей вашей книги — это представление о большевиках как о милленаристской секте, ожидающей Апокалипсиса. Были ли у вас предшественники в таком взгляде на большевиков?
Большевизм часто сравнивают с религией или называют «политической религией» — в противоположность а) нормальным религиям, которые будто бы не политические, и б) нормальным политическим движениям, которые будто бы не религиозны. Я не сравниваю большевизм с движениями, которые кто-то почему-то считает религиями; я определяю «милленаризм», определяю «секту» и утверждаю, что большевизм был милленаристской сектой, а не пародией на таковую. Со своими, естественно, особенностями. Христиане, мусульмане, тайпины, растаманы, нацисты, анабаптисты, Красные кхмеры и черные мусульмане — все очень разные, не все считаются религиями, и все начинались как милленаристы. И большевики тоже.
Вы не раз подчеркиваете, что на протяжении истории человечества существовало немало милленаристских сект; особенно много было их на рубеже XIX и ХХ веков. Но есть ли какая-то закономерность в том, что она победила именно в России? И являются ли, с вашей точки зрения, различные фашистские движения того времени примерами таких же сект?
Я не назвал бы это закономерностью — приход большевиков к власти был результатом чрезвычайного стечения обстоятельств. Но правда и то, что ожидания конца света, распространившиеся в Европе в конце XIX века, приобрели особые масштабы в России, где государство, сочетавшее экономическую модернизацию с политическим охранительством, порождало своих апокалиптических могильщиков «ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе». Фашисты тоже собирались разрушить старый мир, но только немецкий вариант (Тысячелетний Рейх) безусловно подпадает под определение милленаризма.
За последние месяцы появилось два кинофильма, о которых мне бы хотелось упомянуть в контексте разговора про вашу книгу. Прежде всего, это фильм Ильи Хржановского «Дау». Как вам кажется, опыт жителей Дома на набережной можно сравнить с тем опытом, который пытался сымитировать режиссер при съемках «Дау» — можно ли уподобить московский «Дом на набережной» Институту в Харькове? Ощущали ли его жильцы постоянное наблюдение за собой и срежиссированность всей такой жизни — особенно, в период Большого террора?
Я фильм не смотрел, но скажу. Все люди, которые верят в Бога, судьбу, хозяина тайги, избранность или историческую закономерность, ощущают постоянное наблюдение за собой и срежиссированность всей своей жизни — «в русле какой-то… тоталитарной логики». Дело в степени интенсивности и непосредственности этого ощущения. Правоверные жильцы Дома правительства чистили себя под Сталиным и по мере сил соотносили свои действия и эмоции с марксистской хронологией и партийными декретами. И при этом влюблялись, купались, играли в шахматы и ходили в Парк Горького. В период Большого террора ситуация изменилась: Сталин остался на месте, но ощущение игры по правилам, задаваемым режиссером, у многих пропало. И стало страшно и одиноко. И Иов взмолился.
И многие ли из них ощущали абсурдность своей жизни в этом огромном и богатом доме, стоящем посреди бедной коллективизируемой страны?
Абсурдность, пожалуй, не ощущали, но многие мучились сомнениями и шепотом рассказывали женам об увиденном в деревнях. Дети, которые жили менее изолированно, видели нищих по дороге в школу, слышали кое-что о семьях своих домработниц и замечали разницу между своими квартирами и коммуналками, в которых жили их одноклассники. Противопоставление «большого дома» и Дерюгинского переулка, на котором построен сюжет «Дома на набережной» Трифонова, не придумано задним числом.
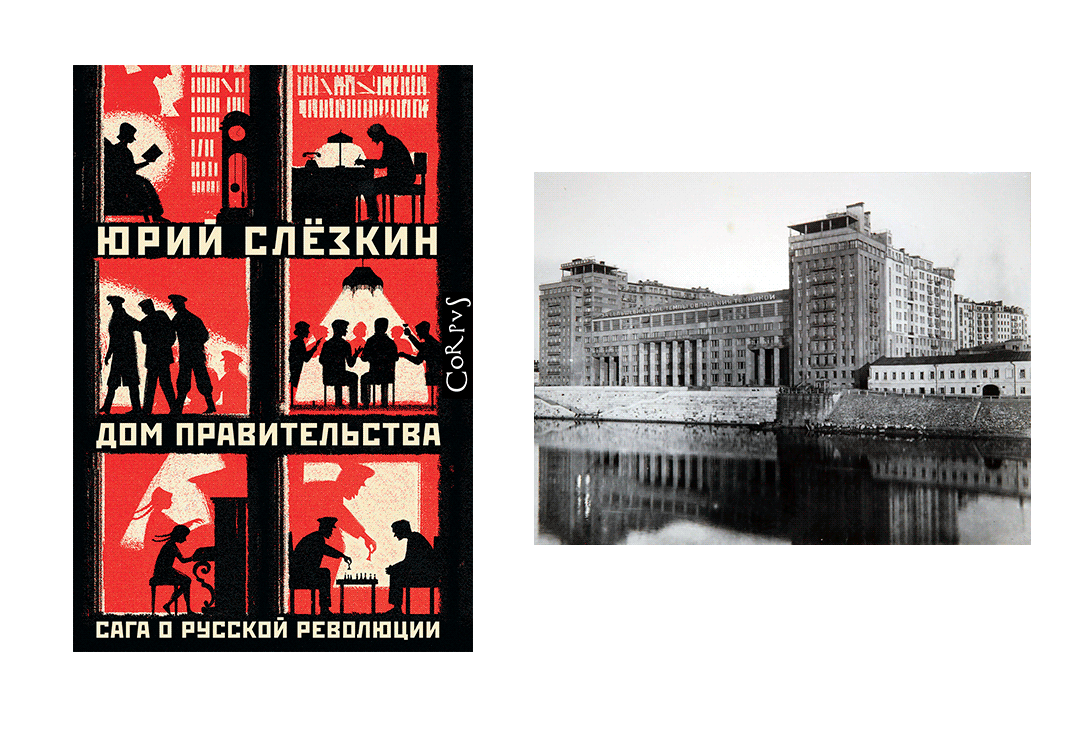
Почему все это не вызывало внутрипартийной критики: вот этот раскол между обустроенной комфортной и буржуазной жизнью — и нищей, необустроенной жизнью в преимущественно крестьянской стране?
Внутрипартийная критика была. «Комчванство» и «разложение» обсуждались и преследовались, а оппозиционеры жаловались на «бюрократизм», «вождизм», «отрыв от масс» и разделение партии на «секретарскую иерархию и мирян». К моменту переезда секретарских иерархов в Дом правительства оппозиции кончились, но на допросах 1937–1938 годов тема вернулась. Многие говорили, что их погубило «болото барско-помещичьей сытости», в том числе дачи и спецраспределители.
Второй кинопример, о котором я хотел у вас спросить, — это прошлогодний фильм «Процесс» Сергея Лозницы. Самое страшное в нем, на мой взгляд, это выступления инженеров, которых обвиняли в создании так называемой «Промпартии». Инженеры «разоблачают себя как врагов», обвиняют себя, сознаются во всех преступлениях, зная при этом, что никакой партии и не было. И так же будут вести себя позже обитатели Дома на Набережной — когда по ним ударит Большой террор. Какова, на ваш взгляд, механика этого процесса? Это тоже проявление того сектантства большевиков, о котором вы пишете?
Я не знаю, как готовился процесс Промпартии, поэтому мне трудно судить, было ли там что-нибудь, кроме шантажа и сделки со следствием. В случае правоверных большевиков сектантская вера играла главную роль. Следователи были своими, а миряне — чужими. Все подсудимые знали, что в мыслях согрешили против партии, и поэтому в некотором смысле виновны. Задачей следователя-исповедника было помочь грешнику осознать, что смотреть на женщину с вожделением — значит прелюбодействовать с ней в сердце своем, а прелюбодействовать с ней в сердце своем так же грешно, как блудить на деле. А значит, за вожделение нужно наказывать так же, как за прелюбодеяние. И если признаешь акт вожделения, обязан признать акт прелюбодеяния. Некоторые следовали этой логике до конца, некоторые нет.
Рассуждая о причинах того, почему большевикам не удалось прожить дольше одного поколения, вы отвечаете, что причина в том, что им так и не удалось поставить под свой контроль семью. А почему так получилось? И могло ли быть по-другому?
Потому что идеологии конца света и тысячелетнего царства бывают разные. Марксизм исходил из чрезвычайно узкой концепции человеческой природы, согласно которой революция в базисе более или менее автоматически влечет за собой революцию в надстройке. Большевики мало интересовались бытом, не знали, как должна выглядеть коммунистическая семья, и быстро оставили попытки привязать обряды инициации — брак, рождение и смерть — к своей политэкономии и эсхаталогии. А когда спохватились, было поздно. Не для коммунизма, а для сохранения надежды.
А вы не согласитесь с тем, что есть связь между тем процессом «национализации», который вы описывали в своей статье «СССР как коммунальная квартира», и итоговым проигрышем большевизма как вероучения? Не сыграл ли свою роль рост национального самосознания — в России и в республиках Советского Союза?
Соглашусь, — с самим собой приятно соглашаться. Советский коммунизм до конца оставался формой безродного космополитизма. Даже апеллируя к русскому национализму, он не претендовал на роль русского национального движения. Коммунистические партии Китая и Вьетнама не пострадали от перехода к капитализму, потому что всегда были национально-освободительными движениями. В Советском Союзе легализация частной собственности оставила короля голым.
1/6 Вид на улицу Серафимовича. 1950-е годы Фото: Музей «Дом на Набережной» 2/6
Вид на улицу Серафимовича. 1950-е годы Фото: Музей «Дом на Набережной» 2/6  Строительство дома Фото: Музей Москвы 3/6
Строительство дома Фото: Музей Москвы 3/6  Строительство дома Фото: Музей Москвы 4/6
Строительство дома Фото: Музей Москвы 4/6  «Дом правительства» Фото: музей «Дом на Набережной» 5/6
«Дом правительства» Фото: музей «Дом на Набережной» 5/6  «Дом правительства» Фото: Музей «Дом на Набережной» 6/6
«Дом правительства» Фото: Музей «Дом на Набережной» 6/6  Кинотеатр «Ударник». Вид с Болотной площади. 1949 год Фото: Музей «Дом на Набережной»
Кинотеатр «Ударник». Вид с Болотной площади. 1949 год Фото: Музей «Дом на Набережной» А почему послевоенная советская элита уже скорее селилась на отдельных персональных дачах, а не в коммунальных домах или квартирах? В этом тоже проявляется угасание идеологического заряда, импульса, который был у большевиков?
Послевоенная элита тоже селилась в многоквартирных домах — на Арбате, улице Грановского, Кутузовском проспекте, Фрунзенской набережной. И отдельные дачи существовали с 1920-х годов, хотя поначалу были и коммунальные. Но вы правы, что идеологический заряд угас, идея совместного быта ушла, и радикально изменилась эстетика жилища. К началу 1930-х годов, когда заселяли Дом на набережной, конструктивизм перестал быть естественной «оболочкой коммунистического быта». Никто и никогда не находил Дом правительства красивым, и почти все его жители делали, что могли, чтобы «смягчить» его сухость и стерильность — с помощью ковров, абажуров, занавесок и бедных родственников.
Вы много времени провели с героями своей книги, изучая их биографии, письма, мемуары. Какие они у вас чувства вызывают в целом — и есть ли у вас любимые герои вашей книги?
Те же чувства, которые, я надеюсь, они вызовут у читателя: сочувствие, изумление, презрение, любопытство, восхищение, жалость… А с некоторыми героями — Осинским, Воронским, Аросевым, Татьяной Мягковой, Агнессой Аргиропуло, Левой Федотовым — уже никогда не расстанусь.
Знаменитый историк и советолог Шейла Фицпатрик в своей рецензии на вашу книгу прямо сравнивает ее с «Архипелагом ГУЛАГ». Что вы думаете о таком сравнении, согласны ли вы с ним — и импонирует ли оно вам?
Такое сравнение неправомерно, но лестно — и отчасти верно в том, смысле, что «Дом правительства» тоже претендует на эпичность. А неверно потому, что Солженицын свидетельствует и обличает, а я показываю и пытаюсь осмыслить.
Как вам кажется: вашу книгу правильно прочитали, правильно поняли западные читатели? Помню, что меня очень позабавила рецензия на вашу книгу в The Guardian, в которой автор, пропуская в целом вашу центральную идею, укорял вас в неадекватном понимании марксизма. И могут ли, как вам кажется, адекватно воспринять книгу читатели, не имеющие опыта жизни в СССР или современной России?
Думаю, что могут. Прошлое — для всех чужая страна. И вообще грех жаловаться: на книгу было много рецензий, в том числе некоторое количество умных и вдумчивых. А рецензент The Guardian — марксист. Ему показалось, что я неверно изобразил исторический материализм. А я и не собирался его изображать: мне важно, во что верили мои персонажи, а не что написано в священном писании. Вообще «Дом правительства» критикуют с двух сторон — за одно и то же. Некоторым марксистам не нравится уподобление марксизма христианству, а некоторым христианам не нравится уподобление христианства марксизму. И те и другие имеют уши, но не слышат. И, пытаясь перекричать друг друга, рассуждают о «религии».
Как вам кажется, в современном мире есть еще угроза захвата власти в какой-либо стране представителями секты? Или ХХ век чему-то человечество научил?
История никого ничему не учит. Вернее, учит, но ненадолго, как школа. И зачем далеко ходить? Сегодняшнее Исламское государство [запрещенное в России государство] — типичное милленаристское движение, с типичным для ислама упором на создание праведного государства.
Что бы вы пожелали русскому читателю, который будет вскоре впервые для себя открывать вашу книгу?
Чтобы, открыв, начал читать, а начав, не остановился. И набрался терпения. Филипп Миронов, появляющийся в пятой главе, «выстрелит» в тридцать четвертой. Все со всем связано, как говорил Юрий Трифонов. И все связано с Юрием Трифоновым.
1/2 2/2
2/2 