Возможность землетрясения в Ленинграде
О «Заметках» Леона Богданова
Леон Богданов начал создавать свои знаменитые «Заметки о чаепитии и землетрясениях» сорок лет назад, в 1980 году («Черно-корейская месса буддийская — утренний прогноз. Марта 1-е, как всегда пасмурно. Легче первомартовского дуновения свежего воздуха в атмосфере чайной, после кризиса простудной болезни. Мартовский человек»). Размеренная жизнь на излете позднего социализма, прилежная фиксация новостей о политических кризисах и природных катастрофах, еженощные бдения с чаем и табаком, описание пейзажей, видимых из окошка квартиры в Купчине. Грохочут войны, умирают политики, извергаются вулканы, летит в высоком небе комета Галлея — и пристально наблюдает за всем этим сорокалетний горбатый человек с чифирем и «Агдамом» у радиоприемника. В «Заметках» есть и пресловутый Zeitgeist, и настоящая поэзия: «Под окнами листва кипит, как чай в чайнике. Ветер, разыгравшийся не на шутку, вымел последние облачка с неба. Уже осень. Отапливаемся газом. Вода холодна и напоминает о близких утренниках»; а все же остается самый главный и самый неудобный вопрос: зачем сегодня, в 2020-м, читать эти странные записи эпохи Андропова, Черненко и Горбачева?
Что они могут дать нам? Чему могут нас научить?
Наверное, полезно было бы указать на то, что любое настоящее искусство всегда занято перемещением и переопределением собственных границ. Как правило, надежной приметой нарушения автором общепринятых конвенций литературы становится читательское замешательство — мы не понимаем, для чего создана вещь, однако само это непонимание начинает работать подобно стрелке компаса, указывая нам направление движения. Необыкновенная стилистика богдановских записей (одновременно «андеграундная» и «авангардная») вроде бы настаивает именно на таком подходе: определив, какие именно границы преступает автор, мы поймем и глубинную прагматику его художественного жеста. Однако случай Богданова тем и примечателен, что описанная процедура, будучи применена, не только не делает «Заметки» более интересными для читателя — но, напротив, невероятно занижает их действительные ставки.
Здесь нужно вспомнить, что в СССР слово «писатель» означало вполне конкретную профессию и принадлежность к совершенно определенным институциям (Союз писателей СССР). Все, кто не умел (или не хотел) встраиваться в эти институции, считались «непрофессионалами»; именно такие люди составляли советское литературное «подполье», «андеграунд», «неофициальную» или «вторую» культуру. В свою очередь, среди подпольных авторов можно условно выделить две группы. Первая группа полагала, что — несмотря на «непрофессиональный» статус — в действительности она является куда более профессиональной, чем официальные «профессионалы». Согласно мнению этой группы, бездарные и безвкусные тексты членов Союза писателей СССР называются «литературой» только в силу государственной протекции; по гамбургскому же счету художественные достижения андеграунда неизмеримо выше того, что публикуют толстые журналы вроде «Нового мира» или «Юности» («Стихи твои, товарищ, такое говно, что их можно даже и в журнале „Юность” напечатать»). Вторая — куда менее обширная — группа авторов, которую Борис Останин даже предлагал именовать «третьей культурой», наоборот, последовательно настаивала как раз на собственном «непрофессионализме». Сама идея «занятий литературой» виделась тут либо чрезмерно сковывающей, либо безнадежно устаревшей. Можно указать на Улитина, чьи книги были темными эманациями его блестящих монологов; но можно указать и на Пригова, считавшего собственные тексты лишь «отходами деятельности центрального фантома ДАП»; можно указать даже на группу «Коллективные действия», литературное наследие которой возникло вследствие документирования тех или иных «поездок за город». К такому же роду творцов, никогда не желавших быть только «литераторами» (тем более «профессиональными»), безусловно принадлежал и Леон Богданов.
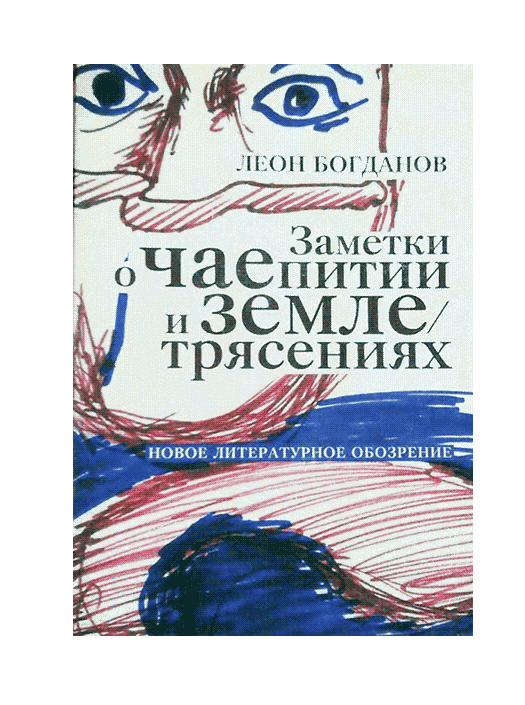 И это главное условие понимания «Заметок о чаепитии и землетрясениях» — перед нами вовсе не «литература»; перед нами что-то совершенно, принципиально иное.
И это главное условие понимания «Заметок о чаепитии и землетрясениях» — перед нами вовсе не «литература»; перед нами что-то совершенно, принципиально иное.
Но что же?
По нашему мнению — записи лабораторных исследований.
Утверждение о том, что Леон Богданов очень интересовался землетрясениями, давно является общим местом. «Заметки Богданова — конечно, о том, <...> что время от времени ощутимо трясет. И каждое мельчайшее проявление повседневной жизни имеет тектоническую подоплеку», — пишет Сергей Соколовский; «Его последние дневники — географическая сюита, испещренная арифметикой силы толчков и числа жертв. <...> Я угадываю в Элике живой компас катастроф, который не только отмечает их, но и не всегда ясным образом предугадывает», — говорит Борис Останин. Разумеется, подобные заявления должны считаться метафорами: на самом деле в Купчине не может «трясти» и человек не может быть «живым компасом катастроф». И здесь мы должны ощутить себя во власти грандиозной инерции, мешающей нам читать как «литературу», так и «не литературу». «Культура подозрения», настаивающая на ошибочности буквального понимания текста; критическая теория, созданная для анализа социума и выродившаяся в анализ дискурса; идеи о том, что «фигуральная структура — не один из многих лингвистических модусов, но характеристика языка как такового» (Поль де Ман, «Аллегории чтения»); и даже позднесоветская привычка постоянно искать «фигу в кармане», и нигилизм новой эпохи post-truth — все это приучило нас воспринимать текст в качестве симптома, метафоры, аллегории или чего угодно еще, но только не в качестве прямой отсылки к «реальности», в нем фиксируемой. Что ж, «тектонический разлом» как метафора восьмидесятых годов выглядит многообещающе. Но что если мы встанем на прямо противоположный путь? Путь, подразумевающий не поиск и распутывание возможных тропов, а своего рода «возвышенный буквализм» чтения текста? Если попробуем поверить в реальность «живого компаса катастроф»? Если посмотрим на Леона Богданова как на человека, пытавшегося буквально изучать «тектоническую подоплеку» повседневности?
(Отметим в скобках, что идея «возвышенного буквализма» не является совершенно произвольной — она аккомпанирует методу автора, широко использовавшего в «Заметках» буквальную информацию из советских СМИ: «Демонстрации в Карачи, Гамбурге. Люди погибли в Колумбии, в результате столкновения с полицией, а в Египте состоялись похороны жертв угона самолета». Для понимания сущностной важности «буквализма» в этом случае полезен мысленный эксперимент: если представить мир тотального недоверия и повсеместно победивших fake news, то в нем вполне могли бы создаваться стихотворения Драгомощенко или проза Евгения Харитонова — однако работа Леона Богданова, пытавшегося уловить ритм катастроф на основании новостных сводок (главный сюжет «Заметок»), сразу стала бы бессмысленной и потому невозможной).
«Мне хочется передать поступательный ход развития землетрясений, и от Газлийского, а еще раньше — от Гвинейского, до Мексиканского у меня зафиксирован каждый шаг», — подводил промежуточные итоги Богданов в 1986 году. Воспринимая богдановские слова буквально, мы должны признать, что перед нами не что иное, как исследовательская программа; цели и методы этой программы окончательно оформились, судя по всему, к 1984 году: «Дневник на восемьдесят четвертый год, это должен быть прямо не прогноз, а расписание того, о чем думается, последовательно, одно за другим. Год заранее выбран для пристального наблюдения за ним и за собой в течение его». Обитающий на краю Ленинграда человек совершенно серьезно собирается изучать землетрясения — и превращает свою кухню в импровизированную лабораторию для такого изучения. Собственно, вся чайная механика и весь образ жизни Богданова выводятся из предположения о подобном лабораторном исследовании землетрясений.
 Как же происходит такое исследование?
Как же происходит такое исследование?
Каждую ночь Леон Богданов начинает с того, что кропотливо конструирует «разрушающиеся, разрушительные натюрморты», включающие «металлический чайник с несмываемыми следами чая, пиалу с чистой водой, даже газовое пламя». И дело здесь вовсе не в чае как таковом, хотя он помогает «понять внутренности помещения, где его пьют, силу освещенности и т. п.»; дело в том, что сосуды с жидкостями, будь то «треть бутылки вина» или «чайник заварочный и пиала, очень точно расположенные на столе и относительно друг друга», должны функционировать как простейшие сейсмоскопы (вроде того, что был создан в 1848 году итальянцем Каччиаторе и расплескивал ртуть). Известно, что при землетрясении интенсивностью пять баллов по шкале Меркалли из посуды выплескивается жидкость, однако наблюдения Богданова тоньше — часами он может смотреть на «чай, в котором видна тень на дне пиалы», чтобы по внезапному колебанию этой тени догадаться о подземном толчке. Утром про толчок расскажут по радио, и потому действительно можно утверждать, что «пьешь чай и догадываешься о завтрашней первой новости». Впрочем, не только емкости с вином и чаем; Богданов создает хрупкие конструкции из всего, что попадает под руку: на шкафу громоздится башня из чайных коробок, на столе сложены «аккуратные папиросы», стоят рядышком «красивый спичечный коробок и смятая пачка „Беломора”», ровной горсткой насыпана заварка. Эти сооружения могут задрожать уже при землетрясении в три балла, которое сравнивают с проезжающим под окнами легким грузовиком. И вот почему Богданов ведет наблюдения преимущественно ночью, когда перестает ходить транспорт и стихает большинство шумов — ничто не должно заслонять тончайшие вибрации возможного землетрясения: «Наступает тишина и ночь завладевает своими правами. Серия последовательных тихих звуков, сопровождающих приготовление чая, завершена. Может быть, в последний раз срабатывает лифт. <...> Зуммер можно выключить, а холодильник выключается сам. <...> Будет тишина во всю ночь. Не видно уже на улице прохожих, и городской транспорт не ходит». Перед нами, как справедливо указывает Кирилл Кобрин, «разновидность такого параноидального мышления». Однако истинная радикальность практики Богданова может быть раскрыта только при условии буквального понимания его заявлений («Не может не быть системы во всех этих землетрясениях и извержениях») и его «паранойи»: он на самом деле, совершенно искренне ждет начала землетрясения — здесь и сейчас, в ночной кухне купчинской квартиры, в абсолютно плоском городе среди балтийских болот. По большому счету то, что современники принимали за «чаепитие», в действительности являлось не чем иным, как дизайном эксперимента.
При этом «Леон Богданов — параноик невероятно изощренный» — и он не только наблюдает, покатится ли по столу папироса, закачается ли чайное ситечко, задрожит ли мелко чифирь. Прекрасно зная, что в лабораторном эксперименте не может быть ничего «незначительного», что открытия зачастую вырастают из кажущихся мелких ошибок и неувязок, Богданов скрупулезно фиксирует все обстоятельства своей работы, будь то температура и сила ветра за окном, подступающие холода или хлынувший вдруг дождь, любые события общества, политики и природы: «Тридцать первого успели получить чай. Уже восемь, а еще ночная темнота. Спешить не надо и некуда, сегодня праздник везде. Сам я отдыхаю, когда записываю. Вечером, после программы „Время” передают предупреждение о наводнении. Все чаще стали случаться небольшие наводнения. Ветер воет между домами, продувает все щели, открывает дверь». Это именно лабораторная, протокольная стилистика, единственная цель которой — не упустить чего-то важного. Собственно, именно так ведут себя работники любых лабораторий; как отмечали в «Лабораторной жизни» Бруно Латур и Стивен Вулгар: «сотрудники лаборатории — одержимые и едва ли не маниакальные писатели. На каждом столе имеется большая книга в кожаном переплете, в которой работники напротив определенного кодового номера тщательно фиксируют то, что только что сделали». Сам Богданов, листая «Заметки», охотно признает: «В этой книжке есть довольно много подготовительного материала»; благодаря этому материалу когда-нибудь «станут понятны и общие законы».
 Леон Богданов
Леон Богданов
Здесь, однако, возникает еще один важный вопрос. Ведь если Леон Богданов разбирался в «тектонической подоплеке» катастроф, он должен был прекрасно осознавать невозможность землетрясения в Ленинграде — городе, максимально удаленном от любых вулканов, разломов, стыков плит и районов активного горообразования.
Определенная ирония ситуации заключается в том, что для Богданова подобная постановка проблемы (может ли произойти землетрясение в Ленинграде?) вообще вряд ли была релевантна. Его знание о землетрясениях функционировало по принципам почти сократическим — постоянно приводя исследователя к выводу о собственной глубокой неосведомленности. Планета был загадкой — и острое переживание такой загадочности (хорошо схватываемое в «Заметках о чаепитии и землетрясениях») являлось, кажется, неким общим знаменателем для огромного множества исследовательских программ, создаваемых советскими людьми. Сегодня это может звучать парадоксально, но царивший в СССР «культ науки» почти никогда не порождал твердолобой веры в те или иные (произведенные наукой) «фактоиды» (веры, столь характерной для городского «среднего класса» современной России, охотно потребляющего научно-популярную литературу и лекции «просветителей» с целями, несомненно, терапевтическими — убедиться в рациональности, понятности и минимальной стабильности мира). Восприятие себя в качестве субъекта истории (пусть чрезвычайно ослабевшее, сохранившееся к началу 80-х лишь на уровне риторики) придавало мышлению советских людей трудно представимую ныне открытость и лабильность. По всеобщему убеждению, Вселенная кишела тайнами — но тайны эти не пугали, только манили и раззадоривали. На месте ограниченного (и оттого парализующего) «знания» буржуа царили модус «продуктивного незнания» и чувство неизбывного удивления, стимулировавшие мыслительный поиск и настаивавшие на проверке любых, сколь угодно фантастических гипотез об устройстве мира.
Вот почему и Леон Богданов не мог исключать возможность землетрясения в Ленинграде: в конце концов, бывают очень длинные волны, бывают и сверхглубокие очаги, бывают и подземные ядерные испытания (о которых регулярно упоминается в «Заметках»). Через несколько лет после смерти Богданова в журнале «Nature» даже опубликовали статью о советском тектоническом оружии «Меркурий», разработка которого якобы началась в 1987 году. И все же (при справедливости всего сказанного выше), говоря об ожидании Богдановым купчинского землетрясения, мы в первую очередь должны указать на совершенно конкретную (пара)научную теорию, адептом которой он являлся. Это теория так называемой «причинной механики», созданная пулковским астрономом Николаем Александровичем Козыревым (1908–1983).
Фамилия Козыревых была хорошо известна в Ленинграде. В «Заметках» Богданов регулярно упоминает «Киру» — Кирилла Козырева — своего ближайшего друга и родного племянника Н. А. Козырева. В купчинской квартире родителей Киры — Алексея Александровича Козырева и Марьяны Львовны Гордон — собирались по субботам почти все действующие лица ленинградской «второй культуры», включая Виктора Кривулина, Александра Миронова и Елену Шварц. Однако решающее впечатление на Богданова произвел именно Николай Александрович, с которым ему удалось познакомиться еще в 60-е — вскоре после публикации Козыревым статьи «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении», вызвавшей дискуссию в центральной прессе (восторженный отзыв Мариэтты Шагинян, резкая отповедь академиков Льва Арцимовича, Петра Капицы и Евгения Тамма): «я был так поражен изложением теории Козырева, что посвятил ему короткое стихотворение: Хлеб Козырева, козырь Хлебникова,/ Но оба кажутся святыми,/ И прорицания их вещи,/ А время будет делать вещи. <...> Я имею в виду взгляды Козырева. Узнать же подробнее об этом было негде, ведь он постоянно, мне кажется, был в загоне, и, если бы не это его открытие, мы, широкая публика, так бы ничего о нем и не знали». Собственно, строчка «время будет делать вещи» точно описывает главную идею «причинной механики» Козырева.
 Купчино. Бывшее русло Волковки, 1972 год
Купчино. Бывшее русло Волковки, 1972 год
Первым импульсом к созданию этой странной теории было кажущееся противоречие в экспериментальных данных — причиной наблюдаемого свечения звезд считаются термоядерные реакции, однако при существующей плотности и размерах вычисленные массы звезд оказываются недостаточными для запуска таких реакций.
Откуда же берется звездная энергия?
Согласно предположению Козырева, ее источник можно найти, если признать принципиальное для физического мира отличие причин от последствий, то есть признать существование определенной направленности самого времени: «Время обладает некоторым несимметричным свойством. Это свойство времени может быть названо направленностью или ходом. В силу этой направленности время может совершать работу и производить энергию. Итак, звезда является только кажущимся perpetuum mobile: звезда черпает энергию из хода времени». Намереваясь подтвердить эту гипотезу, Козырев разворачивает обширную экспериментальную работу, согласно результатам которой время имеет скорость (мировой ход времени, c2 = 2 200 км/с), время имеет «плотность», время создает момент сил, направленный так, что вращающийся против часовой стрелки волчок будет весить больше, чем при вращении по часовой стрелке. Поскольку планеты тоже являются гигантскими волчками, постольку и они подвергаются воздействию «хода времени» и «сил причинности»: северный полюс Земли должен быть немного вогнут, южный полюс — немного вытянут; в итоге, по Козыреву, форма земного шара будет слегка напоминать сердце — кардиоиду. Вдобавок ко всему «силы причинности» меняют свой знак при движении от южного полюса Земли к северному и на 73 градусе северной широты оказываются равны нулю. Что касается Леона Богданова, его изначально привлекла работа Козырева по исследованию геологической активности Луны: «А вот профессор Козырев, когда после его открытия в пятьдесят восьмом или пятьдесят девятом году извержения на Луне о нем стали писать у нас в прессе, вторично, после Ашхабада, стимулировал очень сильно мой интерес к этим природным явлениям. Конечно, я столкнулся потом с тем, что его взгляды явились почвой для многообразных спекуляций, но сам я, как ни рос и ни менялся, не мог изменить своего отношения к этому». Козырев и здесь отстаивал постулаты «причинной механики» — энергия, приводящая к тектоническим сдвигам и извержениям вулканов на Луне передается этому небесному телу от Земли благодаря плотному «потоку времени». Как указывает Александр Дадаев: «В статье „О связи тектонических процессов Земли и Луны” („Известия ГАО” № 186, 1971) Н. А. Козырев учитывает гравитационное взаимодействие Земли и ее спутника, наглядно проявляющееся в морских приливах и отливах. Исследуемый материал содержал списки 630 землетрясений, зарегистрированных в период 1904–1967 гг., и 370 наблюденных кем-либо необычных явлений на Луне за тот же период. Автор статьи установил два типа связи между землетрясениями и явлениями какой-либо активности на Луне, отмеченными прессой: 1) спусковой механизм приливных воздействий; 2) непосредственная причинная связь, осуществляемая „через материальные свойства времени”». Очевидно, Леон Богданов со своими списками катастроф («зафиксирован каждый шаг») пытается делать что-то очень похожее. И решающую роль в его построениях играют именно «материальные свойства времени».
 Железнодорожная станция «Купчино», 1974 год
Железнодорожная станция «Купчино», 1974 год
Как утверждал Козырев, «плотность времени» увеличивается, когда идет любой необратимый процесс (то есть процесс, в котором различаются причины и следствия), — и увеличение этой «плотности» можно фиксировать экспериментально: «Стрелка весов легко отклоняется влево или вправо в присутствии вблизи весов необратимого процесса: охлаждения раскаленной проволоки или куска металла, растворения сахара, испарения спирта или эфира, увядания растений и т. п.». И теперь мы начинаем догадываться, почему у Леона Богданова так часто соседствуют человеческая политика и природные катастрофы. «Он ведь по-своему интерпретирует ту информацию, которую он получает из этих общенародных источников. <...> узнал, что умер Мао Цзэдун, значит, будет скоро очень крупное землетрясение в Китае, потому что Мао Цзэдун обладал прогностическими способностями и умел предсказывать землетрясения. И да, действительно, тут же произошло крупнейшее землетрясение», — говорит о методе Богданова Дмитрий Волчек. Но тайна вовсе не в «прогностических способностях» Мао Цзедуна; просто, в строгом соответствии с идеями Козырева, мощные социальные процессы, если они необратимы, невероятно «уплотняют» время — силы которого и воздействуют на планету; дополнительная энергия времени находит выход в извержениях вулканов и чудовищных сдвигах земной коры. Привычная каузальность переворачивается: если обычно считают, что природные бедствия могут приводить к социальным кризисам, то в теории Козырева — Богданова сам социальный кризис становится причиной природного бедствия. Так объясняется одержимость Леона Богданова международными новостями: гибель Индиры Ганди, убийство Улофа Пальме, смерть Черненко, дипломатические клинчи и военные столкновения — все это должно прямо вести к очередным землетрясениям. И, несомненно, землетрясение может произойти где угодно — лишь бы там шел мощный необратимый процесс, многократно повышающий «плотность времени». И нельзя не отметить, что с начала восьмидесятых (когда Богданов начал свои «Заметки») плотность событий в СССР становилась все выше и выше. Страна вторгалась в Афганистан, боролась с польской «Солидарностью», сбивала по ошибке корейский «Боинг», хоронила за три года трех генеральных секретарей, осваивала «гласность» и «новое мышление», затевала «ускорение» и «перестройку». Для адепта «причинной механики» именно эта растущая интенсивность социальных процессов делала Советский Союз местом, в котором землетрясений следует ждать с минуты на минуту. Леон Богданов не дожил четырех лет до исчезновения СССР в 1991-м, но мы можем догадываться, как бы он воспринял это событие — «крупнейшая геополитическая катастрофа века» стала бы для него прежде всего обещанием собственно геологических катастроф; политический распад страны на пятнадцать частей должен был сопровождаться буквальным, физическим распадом ее территорий: дикой пляской ландшафтов, страшными взрывами вулканов, небывалыми сдвигами тектонических плит, появлением новых великих хребтов и ущелий.
Возвращаясь теперь от жутких прозрений, обещанных «причинной механикой», к «Заметкам о чаепитии и землетрясениях», нужно констатировать — перед нами в самом деле необычная ситуация: спустя несколько десятилетий мы читаем в качестве тонкой поэтической прозы не что иное, как записи странных лабораторных опытов, протоколы параноика, посвятившего семь последних лет своей жизни экспериментальному исследованию причудливой натурфилософской «теории времени» (в итоге оказавшейся абсолютно неверной). Очень честная и очень прозрачная вещь, «Заметки» Леона Богданова (являющиеся сегодня важнейшим художественным свидетельством об эпохе «позднего социализма») вырастали на зыбком фундаменте лже- , пара- и антинауки.
Но, быть может, в этом и заключается главный «урок»?
Современные потребители «знаний», мы все чаще высокомерно отшатываемся от любого фикшн — ведь теперь не создают великих произведений, — предпочитая научно-популярные передачи, книги из списка премии «Просветитель», курсы от звезд «ГикПикника» про нейропластичность и про большой адронный коллайдер. Однако железобетонная уверенность почти любых «просветителей» (в диапазоне от Ричарда Докинза до Александра Панчина), страстно обличающих любую «ненаучную чепуху», неизменно упускает что-то важное: в конце концов, все великие произведения мировой литературы, будь то Книга Иова, «Комедия» Данте или «Мысли» Паскаля, создавались на основе «ошибочных» и именно «ненаучных» теорий мироздания. Больше того, стихия человеческой жизни в принципе далека от Науки и Просвещения — и в двадцать первом веке здесь по-прежнему царят темные слухи, странные домыслы, вековые предрассудки, иррациональные верования, порча, сглаз, приворот, симпатическая и контагиозная магия; но как раз из этой мутной пены (а вовсе не из строгой аргументации «просветителей») и рождается ежеминутно честная речь, точное слово, истинное остроумие и настоящее искусство, рождается эмпатия, сострадание и утешение, рождается общение людей и человечность как таковая. В этом заключается своеобразный метасюжет «Заметок» Леона Богданова — люди пьют дрянь, слушают вздор, верят в чушь и пересказывают друг другу бредни. Но именно — и только — так появляется на свет настоящее искусство.