Вне главного
Из литературных воспоминаний: Елена Шварц
Елена Шварц (1948–2010) — один из ключевых петербургских авторов своего поколения и, возможно, наиболее глубокий поэт-метафизик России новейшего времени. Сегодня «Горький» предлагает вспомнить о замечательной поэтессе и публикует эссе Валерия Шубинского о том, какой была Шварц в стихах и жизни.
Я впервые услышал имя Елены Шварц... — написал и задумался. От кого? Может быть, от моей первой учительницы в литературе Нины Алексеевны Князевой? В «юношеском литературном клубе „Дерзание”» бывали многие; Нина Алексеевна, светлый человек, увы, не всегда достаточно понимала истинную цену тем, кто мелькнул среди ее учеников и учеников ее товарищей. О чем она рассказала? О том, как молодые поэты напились и случайно появившийся в квартире «взрослый человек» испытал панику, увидев среди мучающихся от перепоя отроков и отроковиц Лену: «напоили ребенка» (она была маленького роста и в семнадцать казалась тринадцатилетней). Лениных стихов учительница не помнила, а кто-то из знакомых описал ей так: «женский Бродский». Большей глупости не придумать, но, видимо, слово «Бродский» маркировало для этого эксперта любые слишком сложные для него стихи.
Иначе — с восхищением — поминал это имя один из рядовых участников Второй Культуры, забредавший в конце 1981 года на литобъединение в финансово-экономическом институте, которое вел совсем молодой, двадцатидвухлетний Олег Юрьев. Олег тогда воспринимал стихи Лены с некоторой настороженностью — место которой через считанные месяцы заняла горячая и неизменная любовь. Мне потребовалось чуть больше времени, чтобы полюбить их, то есть — чтобы понять их законы и правоту. Когда понял и полюбил — многому у них научился, прежде всего высокой легкости, небрежности: у них и у Кузмина.
В 1983 году я впервые услышал эти стихи из уст автора. Это было на вечере в одном из институтов — кажется, институте Железнодорожного транспорта на Московском. Там звучали стихотворения, которые я запомнил на всю жизнь: «Земля, земля, ты ешь людей...», «Как эта улица зовется...». Ей было лет тридцать пять — совсем молодая и ослепительно красивая. Она читала стихи не так, как их обычно читают поэты (и как их, на мой взгляд, надо в большинстве случаев читать), — ровным голосом, подчеркивая только формальную структуру и разрешая словам самим работать, — но и не так, как читают актеры, выделяя «содержание» и играя его, как роль, а как-то совсем по-своему: так, как читают «с выражением» дети, — и у нее это получалось прекрасно. В середине чтения вошел Виктор Кривулин; он ходил тогда с тяжелой резной тростью, и, опираясь на нее, прошел по проходу: трость, и его огромная черная грива, и такая же бородища дополняли друг друга и создавали невероятное для той скучной эпохи ощущение экзотики.
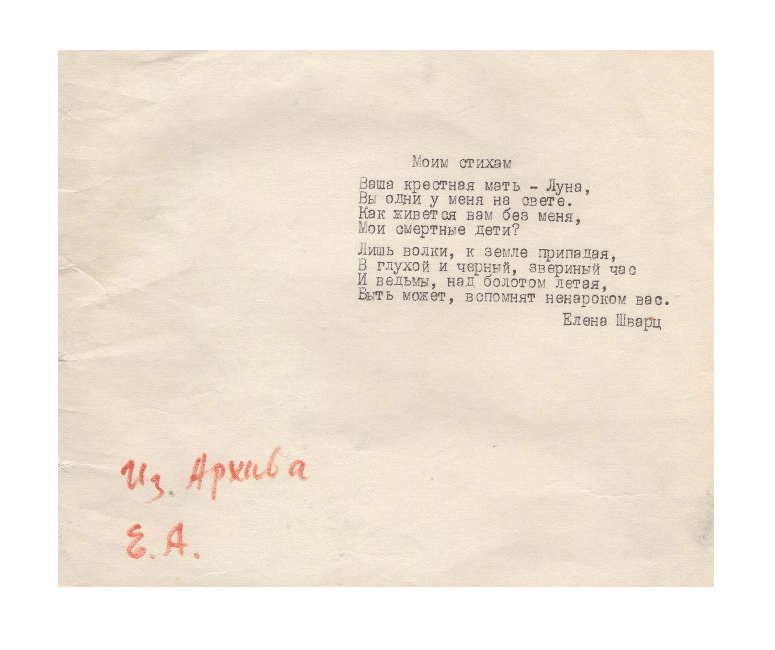 Были и другие чтения — в Клубе-81, когда впервые прозвучала «Лавиния» (Лена извлекла рукопись из полотняной хозяйственной сумки, а народу было столько, что я усадил свою спутницу в уголке, подстелив ей куртку, а сам стоял в толпе); в Союзе писателей (знаменитый вечер Лены и Кривулина в конце 1985-го, обозначивший начало новых времен); в Доме актера (после этого вечера мы сидели с Леной рядом за столом у переводчицы С., которая после литературных мероприятий десятками водила народ к себе на Петроградскую и всех кормила яичницей; кажется, тогда Олег меня ей и представил). Но всерьез мы начали общаться в следующем десятилетии: сперва я начал бывать у нее дома в связи с альманахом «Незамеченная земля», который составлял я вместе с Игорем Вишневецким, а потом мы подружились. Наш возраст и статус был совсем разным, но она не знала субординации. Мы провели много часов в беседах — больше всего в 1994–2004 годы, чуть меньше — потом.
Были и другие чтения — в Клубе-81, когда впервые прозвучала «Лавиния» (Лена извлекла рукопись из полотняной хозяйственной сумки, а народу было столько, что я усадил свою спутницу в уголке, подстелив ей куртку, а сам стоял в толпе); в Союзе писателей (знаменитый вечер Лены и Кривулина в конце 1985-го, обозначивший начало новых времен); в Доме актера (после этого вечера мы сидели с Леной рядом за столом у переводчицы С., которая после литературных мероприятий десятками водила народ к себе на Петроградскую и всех кормила яичницей; кажется, тогда Олег меня ей и представил). Но всерьез мы начали общаться в следующем десятилетии: сперва я начал бывать у нее дома в связи с альманахом «Незамеченная земля», который составлял я вместе с Игорем Вишневецким, а потом мы подружились. Наш возраст и статус был совсем разным, но она не знала субординации. Мы провели много часов в беседах — больше всего в 1994–2004 годы, чуть меньше — потом.
Беседовать с Леной можно было о многом. Ей были интересны самые разные вещи из самых разных сфер бытия, но в очень специальном аспекте. Она во всем улавливала сюжет и материал, то, что могло стать основой для художественного образа, и не интересовалась деталями и нюансами, если они «не работали». Так она относилась ко всему — от святой Терезы до раскрученного тогда прессой путешественника Федора Конюхова. Она много говорила о своих стихах и гораздо меньше о себе как о человеке (хотя охотно рассказывала какие-то истории из своей молодости — например, про неудачную встречу с Ахматовой). К хуле (даже из уст глупца) она была чувствительна, похвалу (стихам) очень ценила и не умела это скрыть, хотя, казалось бы, знала себе цену; быть величественной и даже «респектабельной» не умела совсем — в ней до конца были запальчивость и стеснительность подростка. Юмор ситуации чувствовала великолепно и могла в отзывах о друзьях и знакомых проявлять изрядную язвительность — но никогда тяжелую злость.
Любила она немногих. Очень сильно — мать, Дину Морисовну (никогда я не видел Лену в таком состоянии, как в первое время после ее смерти в 1998 году). Нескольких друзей. Глубокая дружеская привязанность (по ту сторону многочисленных расхождений и разочарований) сохранялась у нее к Кривулину. С Олегом и Ольгой Мартыновой она переписывалась годами и очень регулярно. Это было больше, чем просто литературная дружба. На рубеже веков она прилагала огромные усилия, чтобы добиться издания книг Юрьева и Александра Миронова. А ведь в случае последнего, человека очень мнительного и закрытого, это означало сперва уговорить его на издание, потом самой составить и отредактировать книгу, потом — вести переговоры с издателем. И однотомник вышел.
 В сущности, она была так сосредоточена на своих стихах — на главном, — что интерес к чужому творчеству был с ее стороны почти жертвой. Но она знала, что читать и слушать чужие стихи, обсуждать их с авторами, рекомендовать их журналам и издателям — ее долг. Этим, возможно, злоупотребляли.
В сущности, она была так сосредоточена на своих стихах — на главном, — что интерес к чужому творчеству был с ее стороны почти жертвой. Но она знала, что читать и слушать чужие стихи, обсуждать их с авторами, рекомендовать их журналам и издателям — ее долг. Этим, возможно, злоупотребляли.
Среди окружавших ее молодых поэтов были и люди со странностями. Один молодой поэт — назовем его N. — был очень талантлив и человечески нетривиален, половина литературной общественности десять лет с ним возилась, я сам очень тепло к нему относился, но его ментальные проблемы оказались сильнее дара. Свою эксцентричность он проявлял и в общении с Леной. Один раз он позвонил Лене на католическое рождество и сказал ей:
— Ваша Мурка (кошка — В. Ш.) у меня.
Оказалось, что N. на Рождество решил, что он отныне католик (у него бывали и более странные фантазии на свой счет), и пошел в католическую церковь. Около церкви он встретил кошку, отдаленно похожую на Мурку, и решил, что Лена тоже собралась на мессу (с кошкой!) — а во время службы Мурка убежала.
Другой раз — когда Лена после смерти Дины Морисовны была в тяжелой депрессии и при N. высказалась в духе, стоит ли жить дальше, — юноша стал регулярно звонить ей и предлагать разные способы самоубийства. «Жить сразу захотелось».
(N. потом досвела с ума одна молодящаяся литературная вамп, в которую его угораздило влюбиться. Этот процесс она, что называется, «с особым цинизмом» описала в стихотворной книге с обсценным названием, которую пыталась подарить Лене на некоем литературном мероприятии. Лена взяла книгу, открыла ее, чуть пролистнула... и, впечатленная, отхлестала автора-донатора его сочинением по физиономии. Я этого сам не видел — мне рассказывали.)
Другой молодой поэт X. (тоже небесталанный, но очень наглый и эксцентрично-неумный) был англистом по образованию и переводил на английский стихи своих знакомых. Переводя «Кинфию» Лены (действие которой происходит около 20 г. до н. э.) он перевел «О боги!» как «O Christ!». Почему? «Мне так захотелось». Этот Х. так заговаривал Лену по телефону, что ей пришлось поставить специально для него автоответчик.
Кроме поэтов мне, кстати, доводилось встречать у Лены и священников — сразу двух, молоденьких. Один, очень говорливый и интеллигентный, был зятем известного поэта. Разговор строился так. Лена признавалась, что... может быть, это ересь, но она — верит в метампсихоз. Интеллигентный молодой священник подыскивал цитаты из Отцов Церкви, из которых следовало, что да, и метампсихоз возможен. После смерти Лены именно он ее отпевал и произнес при том проповедь, в которой были слова вроде «позиционировать» и чуть ли не «амбивалентно».
Еврейка по матери, полностью воспитанная еврейской родней, Лена в зрелые годы, пожалуй, смотрела на еврейство со стороны как на нечто чужое (в конце концов, она же стала христианкой). Но тем более она это чужое уважала. Однажды мы обсуждали новость — известие о том, что из Стены Плача «сочатся слезы». Я отнесся к нему скептически; Лена же сказала, что скорее усомнится в истинности плащаницы, нерукотворного огня и прочих христианских святынь, чем заподозрит в лукавстве «еврейских старцев».
 Изредка мы говорили о политике. Лена, поэтически «остранившая» имперскую идеологию в «Заплачке консервативно настроенного лунатика», на самом деле совершенно серьезно уповала на воссоединение бывшей Российской империи — на добровольной демократической основе. Вообще многие ее взгляды были наивны — но не в большей степени, чем те «демшизовые» суждения, которые сам я порою высказывал в середине 90-х.
Изредка мы говорили о политике. Лена, поэтически «остранившая» имперскую идеологию в «Заплачке консервативно настроенного лунатика», на самом деле совершенно серьезно уповала на воссоединение бывшей Российской империи — на добровольной демократической основе. Вообще многие ее взгляды были наивны — но не в большей степени, чем те «демшизовые» суждения, которые сам я порою высказывал в середине 90-х.
Важно ли было ей «женское» в себе? Ее подростковость была скорее мальчишеской, во всяком случае, андрогинной — и именно на этом было основано во многом ее удивительное обаяние. Один раз я навестил ее в больнице, где ее ждала операция. Она с тревогой рассказала, что оперировать будет хирург-женщина. «Ну конечно, — ехидно сказал я. — Женщины могут только стихи писать». «Да и стихи-то женщины пишут плохо... За редким исключением...»
(Но среди молодых поэтов, которых она опекала, женщин было много.)
Вне литературы и человечества у нее было две (воспетые ею) любви: животные (я не застал знаменитого пуделя Яшу, но застал помянутую выше Мурку и сменившего ее японского хина Хокку) и механические устройства. Она была способна к технике, хотя не давала себе труда эти способности реализовать (ей было просто некогда — ей все было некогда: поэзия съедала и замещала в ней все). Она водила машину, пока была жива Дина Морисовна — Лена каждый день возила ее на работу в Большой драматический театр, где та была завлитом, правой рукой Товстоногова (в театральных кругах ее знали гораздо больше, чем дочь). Потом мать умерла, и машина была продана. Компьютером в профессиональных целях Лена стала пользоваться одной из первых. Когда я ей дали премию «Триумф», она решила купить себе в дополнение к стационарному компьютеру ноутбук — «чтобы, если заболею, работать в постели». Тогда это казалось чудачеством.
Когда пожар уничтожил ее квартиру, она несколько раз просила меня походить с ней по магазинам (нужно было купить и донести до дома обои и какие-то еще ремонтные мелочи); по дороге мы зашли в химчистку — получить сумку с вещами. Оказалось, что Лена пользуется химчисткой и другими бытовыми службами под псевдонимом («Ковалева» или «Кузнецова», не помню). Не знаю, какой психологический механизм заставлял ее делать это. Желание спасти свое истинное имя от какого-то сглаза или осквернения? Страх, беспомощность перед бытом? Не знаю.
 Это бесформенные воспоминания. Наверное, стоило бы написать о том, как она умирала (с редким мужеством), но так вышло, что в последние два года ее жизни мы общались меньше всего. Это было связано с обстоятельствами моей тогдашней жизни. Как перед всеми мертвыми, у меня есть свои вины перед ней, в основном небольшие, бытовые (обещал помочь и не помог), но такие тяжелее всего. Я знаю, что больше всего ее обидел один мелкий, дурацкий и стыдный для меня случай (это даже попало в ее напечатанный посмертно дневник). Она спросила моего мнения об одной журнальной подборке. Я не успел ее прочитать, но, зная, как она относится к такому, не захотел обижать ее признанием — и стал абстрактно расхваливать (в конце концов, я читал все Ленины стихи недавнего времени еще в рукописи). Лена поймала меня на лжи: я не знал, какие стихи в подборку вошли, точнее, предположил — и предположил неверно.
Это бесформенные воспоминания. Наверное, стоило бы написать о том, как она умирала (с редким мужеством), но так вышло, что в последние два года ее жизни мы общались меньше всего. Это было связано с обстоятельствами моей тогдашней жизни. Как перед всеми мертвыми, у меня есть свои вины перед ней, в основном небольшие, бытовые (обещал помочь и не помог), но такие тяжелее всего. Я знаю, что больше всего ее обидел один мелкий, дурацкий и стыдный для меня случай (это даже попало в ее напечатанный посмертно дневник). Она спросила моего мнения об одной журнальной подборке. Я не успел ее прочитать, но, зная, как она относится к такому, не захотел обижать ее признанием — и стал абстрактно расхваливать (в конце концов, я читал все Ленины стихи недавнего времени еще в рукописи). Лена поймала меня на лжи: я не знал, какие стихи в подборку вошли, точнее, предположил — и предположил неверно.
Когда урну с прахом Лены подхоранивали к Дине Морисовне, позвали другого священника — совсем простого, нелитературного, и знавшего об усопшей только ее имя. Он сказал, что о мертвых надо молиться, потому что сами они молиться не могут. Я ничего не понимаю в христианском богословии, но почему-то эта мысль меня задела. Мертвые не могут молиться, а могут ли прощать? А любить, а чувствовать любовь? Хочется верить, что могут, если могут хоть что-то иное.