Вход только для героев: интервью с Майклом Суэнвиком
К 70-летию мастера фэнтези и научной фантастики
— Майкл, первым вашим текстом, изданным в России, была статья о киберпанках и «гуманистах» под названием «Постмодернизм в фантастике: руководство пользователя». Позже ваши романы «Вакуумные цветы» и «Путь прилива» вышли у нас именно в серии киберпанка. Вы действительно были близки к Движению — или это чисто российская ошибка восприятия?
— В начале восьмидесятых все друг друга знали: и киберпанки, и «гуманисты». Мы все одновременно пришли в литературу, и на всех нас повлияли одни и те же книги. Между этими двумя группами было больше сходств, чем различий.
При этом сам я никогда не входил в киберпанковское Движение. Сегодня в это никто не верит, потому что меня чуток переоснастили и туда впихнули, но в то время в киберпанке всем заведовал Брюс Стерлинг, а он решительно не одобрял того, что я делал. Когда он собирал антологию «Зеркальные очки», там изначально было всего четыре писателя. Купивший антологию Дэвид Хартвелл сказал Брюсу, что для литературного движения авторов маловато и нужно еще кого-нибудь взять. И Брюс взял в том числе Грегори Бира и Джеймса Патрика Келли, которые уж точно не считали себя киберпанками.
Так что я был близок к киберпанковскому Движению, но к нему не принадлежал. Вполне понимаю, почему кто-то считает иначе, но это просто общие для поколения черты.
— И все-таки: что именно унаследовала современная фантастика от киберпанка 1980-х годов?
— Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что главным можно было бы назвать внимание к классовым различиям — ведь в то время американские писатели-фантасты по большей части даже не хотели признавать, что такое явление существует. Сюда отчасти относится осознание того, что машинно-нейрологическая модификация человека поможет не превратить нас в сверхлюдей, а создать усовершенствованных наемных рабов.
В киберпанке центральное место занимает Уильям Гибсон — по правде говоря, Эллен Датлоу, редактор, которая его открыла, поначалу утверждала, что он вообще единственный киберпанк. Его значительным вкладом в это направление было слово «киберпространство» и миф о действующих в нем хакерах: в те времена, когда персональные компьютеры и интернет еще были для нас в новинку, это помогло читателям уловить суть того, чем они занимались. С литературной точки зрения, думаю, важнейшей чертой в книгах Уильяма Гибсона был эффект холодности, равнодушия. Обычно такую атмосферу ассоциировали с авторами нуарных детективных романов, но мне было совершенно очевидно, что Гибсон перенял этот прием у Уильяма С. Берроуза. Сейчас никто и не вспомнит, но еще до появления «Нейроманта» множество писателей пытались создавать нечто подобное, однако у всех была общая черта — их главных героев живо интересовала история, в которой те участвовали. А Кейсу, центральному персонажу «Нейроманта», было плевать. По сути, он был наркоманом, и его приходилось заставлять играть роль героя.
Во вторую волну киберпанка вошли писатели, восхищавшиеся киберпространственной трилогией Гибсона, и они вернули в повествование горячность, азарт. На мой взгляд, это было ошибкой.
— В издательстве «Азбука» выходит ваш роман «Мать железного дракона», заключительная часть трилогии «Iron Dragons». С момента выхода первого романа, «Дочери железного дракона», прошло более четверти века. Как изменился за это время ваш взгляд на мир, описанный в этом цикле?
— Не думаю, что мое вѝдение сильно изменилось. Тогда я представлял этот мир прекрасным, манящим и опасным, и теперь вижу его таким же прекрасным, манящим и опасным. В жизни полно боли, потерь и восторга. Слабакам тут не место. Я уже говорил раньше, но повторю еще раз — на дверях на выходе из материнского чрева нужно повесить табличку: «ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕРОЕВ».
Мы все герои, потомки тысяч поколений героев.
 — В свое время ваши эссе о нестандартной, нетривиальной литературе «Постмодернизм в фантастике» и «В традиции...» стали своего рода каталогом для отечественных издателей: они целенаправленно отбирали авторов и произведения, упомянутые в этих статьях, чтобы издать в России. Однако первое эссе опубликовано в 1986 году, второе — в 1994-м. Неужели с тех пор в англоязычной фантастике не появилось настолько же ярких явлений, о которых стоило бы написать? А как же «новые странные» например?
— В свое время ваши эссе о нестандартной, нетривиальной литературе «Постмодернизм в фантастике» и «В традиции...» стали своего рода каталогом для отечественных издателей: они целенаправленно отбирали авторов и произведения, упомянутые в этих статьях, чтобы издать в России. Однако первое эссе опубликовано в 1986 году, второе — в 1994-м. Неужели с тех пор в англоязычной фантастике не появилось настолько же ярких явлений, о которых стоило бы написать? А как же «новые странные» например?
— То, что мы называем «новым странным», существует уже давно: М. Джон Харрисон писал такую прозу еще в 1970-х. Таким образом, вопрос о том, является ли определенное произведение «новых странных» старым или новым, — вопрос спорный. Чайна Мьевиль (как по мне, самая интересная фигура в этой группе, за возможным исключением Харрисона) некоторое время продвигал это направление, но ему неинтересно было вести официальный список «новых странных». И потому они сильно сбавили темп.
Когда я писал те два эссе, я близко соприкасался с тогдашней литературной кухней и переписывался со многими молодыми авторами, которых упомянул. Сегодня я уже не так тесно связан с новыми писателями, что очень жаль, и потому не могу так подробно рассказать о том, что происходит в литературе. В целом из нынешних важных событий можно отметить то, что в нашей области существенное место стали занимать многочисленные небелые авторы; что научная фантастика обратилась к гендерным вопросам — оказавшимся гораздо более сложными, чем их понимали всего поколение назад; что англоязычный рынок стал более доступным для художественной литературы не из США, Великобритании, Канады или Австралии.
Знаю, последний пункт покажется вам не столь очевидным, потому что на английский переводится очень мало научной фантастики из России и стран бывшего СССР. Однако Нил Кларк из журнала Clarkesworld регулярно публикует рассказы не только китайских писателей, но и авторов из других азиатских стран и из Африки. У писателей из неанглоязычных стран по-прежнему мало шансов завоевать внимание в англоязычном мире, но ситуация все же лучше, чем была всего несколько лет назад.
— Два ваших романа по структуре заметно выделяются на фоне других произведений крупной формы. Обычно вы щедро засеваете романное поле идеями и концепциями, однако «Джек/Фауст» (1997) чуть менее чем полностью построен вокруг одного фольклорного и литературного сюжета, а в романе «Кости земли» (2002) всего две стержневые темы: теория эволюции и путешествия во времени. С чем связано такое изменение в подходе?
 — Каждый роман индивидуален, и, поскольку работа над книгой занимает у меня несколько лет, я пишу только о том, что меня сильно интересует. «Джек/Фауст» появился потому, что подростком я открыл для себя «Доктора Фауста» Кристофера Марло и влюбился в эту идею — человек продает душу в обмен на знания. Увы, Фауст Марло растрачивает жизнь на банальные фокусы. Я хотел написать такую историю, где герой продает душу за знание, а это самое знание его губит. Чтобы написать такую историю, нужно было стать достаточно хорошим писателем, и на это у меня ушли десятилетия. Но все это время я держал замысел в голове.
— Каждый роман индивидуален, и, поскольку работа над книгой занимает у меня несколько лет, я пишу только о том, что меня сильно интересует. «Джек/Фауст» появился потому, что подростком я открыл для себя «Доктора Фауста» Кристофера Марло и влюбился в эту идею — человек продает душу в обмен на знания. Увы, Фауст Марло растрачивает жизнь на банальные фокусы. Я хотел написать такую историю, где герой продает душу за знание, а это самое знание его губит. Чтобы написать такую историю, нужно было стать достаточно хорошим писателем, и на это у меня ушли десятилетия. Но все это время я держал замысел в голове.
«Кости земли» появились потому, что я хотел написать роман о динозаврах в жанре твердой НФ. Перед тем как взяться за перо, я больше года исследовал тему, интервьюировал палеонтологов, ездил за тридевять земель посмотреть на те или иные ископаемые, изучал научные публикации. Потом начал писать и каждую главу давал почитать Роберту Уолтерсу, художнику, специализирующемуся на реконструкции динозавров. Он возвращал ее с длинным перечнем моих ошибок, я все исправлял, а затем отсылал главу уже Томасу Хольцу, палеонтологу из Мэрилендского университета, и от него получал не менее длинный перечень ошибок. На всех этапах — страшно увлекательное занятие.
Когда я закончил роман, у меня получилось самое достоверное в мире художественное произведение про динозавров. Правда, к моменту публикации были сделаны новые открытия, так что некоторые детали оказались устаревшими. Это неизбежно, когда пишешь твердую НФ.
— Все пять премий «Хьюго» достались вам за повести и рассказы. Чем отличается работа надо малой и средней формой от работы над романом?
— Рассказы — это такие словесные машины, специально созданные для какой-то одной цели: заставить читателя смеяться, плакать, думать, удивляться, да мало ли что еще. Поэтому рассказ должен быть четким и не должен содержать ничего лишнего, абсолютный минимум подвижных частей, никаких лишних слов. А роман — это большое неопрятное бессвязное чудовище. В нем есть место для шуточек, случайных сцен, привнесенных исключительно красоты ради; диалогов, единственная цель которых — развлечь читателя. Тут не обязательно добираться до пункта назначения самым эффективным способом — главное, чтоб сюжет двигался вперед. Рассказ — это приключение, а роман — это целый мир.
Лучше всего об этом сказал Говард Уолдроп: рассказ — история о самом важном событии в жизни героя, а роман — история о самом важном в его жизни периоде.
Что касается разницы в работе над ними: когда писатель пишет роман, у него появляется приятная возможность долгое время жить чужой жизнью. Зато у рассказа есть потенциал достичь совершенства. Я написал несколько идеальных рассказов. Идеального же романа не написал еще никто.
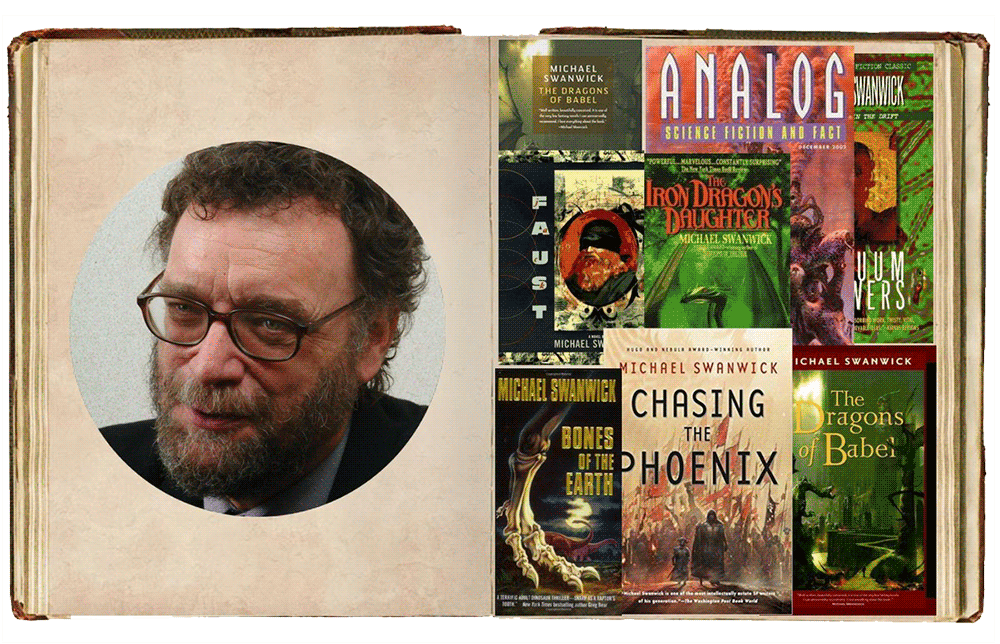 — Некоторые детали вашего постапокалиптического плутовского романа «Танцы с медведями» (2011) заставляют вспомнить книги Владимира Сорокина «День опричника», «Метель», «Теллурия». Генетически выведенные карлики и гиганты, стихи в жидком виде, разлитые по бутылкам и пьянящие, как вино, само феодальное устройство Московского государства будущего. Можно ли тут говорить о прямом влиянии — или только о случайном сходстве?
— Некоторые детали вашего постапокалиптического плутовского романа «Танцы с медведями» (2011) заставляют вспомнить книги Владимира Сорокина «День опричника», «Метель», «Теллурия». Генетически выведенные карлики и гиганты, стихи в жидком виде, разлитые по бутылкам и пьянящие, как вино, само феодальное устройство Московского государства будущего. Можно ли тут говорить о прямом влиянии — или только о случайном сходстве?
— Я не читал ни одной книги Сорокина. По всей видимости, нужно это сделать. Похожие моменты отчасти объясняются самим арсеналом НФ: генетически измененные люди описывались в литературе задолго до моего рождения. Мне казалось, что жидкая и пьянящая поэзия, разлитая по бутылям, — это мое изобретение, и я этим изобретением весьма гордился. Но если Владимир Сорокин был первым, я должен снять перед ним шляпу.
— Один из героев вашего рассказа «Либертарианская Россия» (2010) берет имя «Виктор Пелевин» в честь писателя и мыслителя прошлого. Вы сами много раз бывали в нашей стране, причем не только в Москве. Как на ваш взгляд, что самое главное сообщает иностранцу о России проза Пелевина?
— Во-первых, сразу должен предупредить: я поклонник творчества Виктора Пелевина, но не специалист по его работам. Но если мое мнение хоть чего-то стоит, я бы сказал, что главное в его книгах — демонстрация того, как быстро менялась и продолжает меняться Россия. На протяжении всей его карьеры произведения Пелевина эволюционируют и мутируют, отражая происходящие в российском обществе перемены. Меня это восхищает.
— Несмотря на рост популярности китайской литературы и китайской научной фантастики, доля переводной художественной литературы в США не увеличивается годами и остается крайне низкой. Складывается впечатление, что американским читателям по-прежнему интересны только американские писатели. Как сочетается такой очевидный культурный колониализм с похвальным стремлением к разнообразию?
— Читатели научной фантастики в этом не виноваты. Они интересуются переводной литературой и высоко ее ценят. Но тут вмешивается рынок. Один редактор объяснял мне, что перевод стоит столько же, сколько покупка книги у нового, неизвестного автора — а любой автор считается неизвестным, если его работы еще не публиковались по-английски, даже если на родном языке это бестселлеры. Так что купить книгу или рассказ у русского, китайского или финского писателя стоит в два раза дороже, чем у американского.
Успех китайской литературы на американском и британском рынке во многом объясняется тем, что существуют специальные программы, финансирующие переводы. А еще Кен Лю, который является не только очень популярным писателем, но и блестящим переводчиком, вложил много времени и сил в продвижение литературы, которая казалась ему важной. Один человек может очень многое изменить, если ему хватает таланта.
— Понимаю, что выбор непростой, но какую свою книгу вы назвали бы самой важной, той, которую должен прочитать каждый, кто хочет понять, что это за писатель — Майкл Суэнвик?
— Если вам нравится фэнтези, почитайте «Дочь железного дракона», где рассказывается о похищенной эльфами девушке, которую заставили работать на фабрике, производящей драконов. Девушке удается сбежать, тут-то у нее и начинаются настоящие проблемы. Или возьмите «Мать железного дракона»: каждую из книг трилогии можно читать отдельно. Если предпочитаете научную фантастику, могу посоветовать «Путь прилива»: в этом романе чиновник отправляется на планету, где технологии искусственно поддерживаются на примитивном уровне конца XX века, ему нужно выследить черного мага, укравшего секретную технологию. Один роман в духе научно фантастической фантастики, другой — в духе фэнтези-фантастики, из чего можно сделать выводы о моих предпочтениях.
А можно просто взять сборник рассказов: я очень серьезно отношусь к малой форме. Это моя первая любовь, и я никогда от нее не отказывался, хотя романы писать гораздо прибыльнее.