Вернуться к Гомеру и Вергилию: интервью с Андре Асиманом
Автор романа «Назови меня своим именем» — о любимых книгах и отношениях с Россией
— Я хочу поговорить о вашем романе «Восемь белых ночей», который был недавно опубликован на русском. Но мой первый вопрос будет немного о другом. Я знаю, что вы большой поклонник Марселя Пруста и специалист в его творчестве. Вы читаете лекции о нем, редактировали книгу о нем. Скажите, пожалуйста, может, вы помните вашу первую встречу с романом Пруста? Каким было первое впечатление?
— Я прекратил читать Пруста, как только приступил к его чтению. Мне было 14 лет, и я знал, что мой отец был его большим поклонником. Так что сказалось влияние отца. И как-то мы с ним гуляли по Парижу и я захотел купить книгу. Он спросил: «Почему бы тебе не купить книгу Пруста в таком случае?» Я ответил: «Да, это хорошая мысль». И он купил мне второй том, не первый, потому что сказал, что я подросток и читать мне наверняка захочется о подростке. Так что я воодушевился этим, приступил к чтению и, думаю, прочитал что-то около тридцати страниц. Это было немного, но я почувствовал, что это слишком близко мне, слишком, слишком мне знакомо. И почувствовал, что я еще не готов к тому, чтобы кто-то так хорошо знал меня.
В то время я был большим поклонником Достоевского, и сейчас он мне тоже очень нравится. Думаю, понятно, что в нем много психологизма. Но это скорее авторское психологическое волнение. Пруст не всегда бывает взволнованным. Он невротик. Я могу с уверенностью сказать, что Достоевский мне был ближе, пока я не прочитал Пруста.
Так что я прекратил чтение Пруста на несколько лет. Затем я вновь взялся за него и прочел роман залпом. И, думаю, это изменило мою жизнь. Очень трудно признаться, что книга изменила твою жизнь, но она может изменить то, как ты думаешь о жизни, о людях и, в конце концов, о себе самом.
— Я начал наш разговор с вопроса о Прусте неслучайно. В вашем романе «Восемь белых ночей» постоянно находятся следы прустовского романа. Скажем, описание вечеринки на протяжении семидесяти страниц, невероятная наблюдательность рассказчика, его обостренное внимание к своим чувствам к Кларе и так далее. Можно ли назвать ваш роман оммажем Марселю Прусту?
— Да, можно. И думаю, что это дань уважения трем личностям, если собрать их, и, хотя я не задумывался об этом ранее, думаю, в этом есть смысл. В первую очередь это дань уважения Достоевскому. Тут нет вопросов. Я прочитал всего Достоевского, так что его влияние неоспоримо. Во-вторых, это дань уважения Прусту. А в-третьих, это еще дань уважения моему любимому французскому кинорежиссеру Эрику Ромеру. И все они как бы столпы в моей книге, поскольку поддерживают все, что моя книга пытается высказать.
— Я не задумывался о Достоевском, хотя сейчас удивляюсь, как он не пришел на ум в связи с «Белыми ночами».
— В Италии книге дали название «Белые ночи». Я не знаю, почему в Америке не захотели. Они предпочли «Восемь белых ночей». Как по мне, это не особо меняет сути. Я бы предпочел «Белые ночи», поскольку это отсылает к повести Достоевского.
 — Вы помните, что вас вдохновило к написанию этого романа? Может, какая-нибудь яркая встреча или впечатление, подарившее вам историю об Оскаре и Кларе?
— Вы помните, что вас вдохновило к написанию этого романа? Может, какая-нибудь яркая встреча или впечатление, подарившее вам историю об Оскаре и Кларе?
— Это одна из немногих мною написанных вещей, которая почти полностью основана на моей биографии. Я встретил женщину, похожую на Клару, которая тоже не отличалась любезностью. Думаю, что многие мужчины успели помучиться с такими женщинами или хотя бы влюблялись в них. Это не длится долго, но, несомненно, это самая привлекательная вещь из возможных. Просто потому, что это женщина, которая совершенно откровенна и при этом не обязательно женственна. И ты способен только вымолвить: «Окей, я сдаюсь, я сдаюсь этому, я не могу бороться с этим, я не могу сопротивляться этому, я должен отдаться этому». Я знал несколько подобных женщин, и что я люблю в них, так это то, что они, как правило, берут на себя не только первый, но и второй шаг, упрощая тебе путь, потому что, знаете, для мужчины снискание расположения женщины всегда труд. Так что есть такие сильные и самоуверенные женщины, о которых ты просто говоришь: «Боже, это судьба. Это должно случиться». Думаю, так это и чувствуется. И я таким образом чувствовал. И захотел поделиться этой историей.
И нечто могло произойти с героями прямо в первую ночь. Но я чувствовал, что нет, нельзя, это слишком прекрасно. У меня достает опыта. Я знаю, что рано или поздно случится. Здесь нет никакой загадки. Но мне хотелось растянуть. И многие люди, многие читатели чувствуют, что никакие отношения не длятся наподобие этих восьми ночей. Но я хотел поиграться с идеей любви, которая, по сути, откладывается. Речь, в общем-то, идет о начале, которое всегда составляет наилучшую частицу любовных отношений. Вы можете не соглашаться со мной, но это то, как я чувствую.
— Только дочитав роман, я заметил, что у главного героя нет реального имени. Мы также ничего не знаем о его профессии или какие у него взгляды на религию или политику. Мы знаем только его возраст (28 лет), его прозвище (Оскар), а также его любовь к искусству (в частности, к Эрику Ромеру). Зато о Кларе или о родителях и друзьях главного героя мы знаем значительно больше. Что вы хотели подчеркнуть этим?
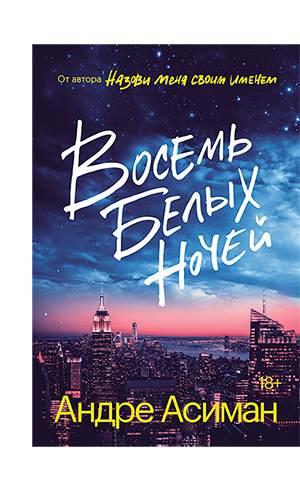 — Это напрямую связано с моим определением идентичности. Если вы выбросите работу, религию, родителей, зарплату, если выкинуть все это, то что от вас останется? Вы поймете, что вам, по сути, не на что опереться, вы остаетесь одни, остаетесь чуть ли не выпотрошенным и беззащитными. Я не хотел давать вам никаких сведений о главном герое, потому что мне хотелось позволить вам обследовать его так, будто вы находитесь в его голове.
— Это напрямую связано с моим определением идентичности. Если вы выбросите работу, религию, родителей, зарплату, если выкинуть все это, то что от вас останется? Вы поймете, что вам, по сути, не на что опереться, вы остаетесь одни, остаетесь чуть ли не выпотрошенным и беззащитными. Я не хотел давать вам никаких сведений о главном герое, потому что мне хотелось позволить вам обследовать его так, будто вы находитесь в его голове.
Ведь обычно мы понятия не имеем, как мы выглядим, пока смотрим в экран или зеркало, — как, скажем, я прямо сейчас или вы. Вы не задумываетесь о себе как о лице, потому что смотрящий — это вы. И мне хотелось, чтобы эта тема стала ведущей в книге. Как главный герой, по сути, проживает свою жизнь без чего-либо, что охарактеризовало бы его снаружи. Думаю, что Пруст в какой-то мере занимался тем же, но не до конца. Мне же захотелось отмести эти преграды еще дальше и обрести героя без лица и имени, без религиозных взглядов, без политических убеждений, без работы, без вообще чего-либо. Потому что я всегда чувствовал, что то, какие мы на самом деле, не имеет ничего общего с этими наружными чертами. Они скорее говорят о том, как мы измучены изнутри. И я думаю, что все, все люди так измучены. И поэтому мне хотелось обнажить это мучение. В книге есть сцена, когда Клара дает гостям закуски, и главный герой пробует перец, и слезы выступают из его глаз, ему горячо и остро. Так я старался раскрыть, что происходит, когда наше тело, даже нашел тело, начинает изменять нам, и мы остаемся совсем беззащитными.
Я думаю, большинство из нас никогда не открыты достаточно. Всегда есть экран между нами и миром, между нами и нашими лучшими друзьями, между нами и нашими влюбленными. Что случается с нами, когда мы убираем экран? Это мне и хотелось исследовать.
— В вашей книге мы находим портрет жителей Манхэттена, особенно в лице главных героев. Мы узнаем их предпочтения в еде или вине, гуляем с ними по их любимым улицам и паркам. Но вы избегаете всех общественных или политических тем в их разговорах и отношениях. Они болтают о Бетховене или Эрике Ромере, но ни разу не упоминают Обаму или глобальное потепление. Это было сознательным решением?
— Целиком сознательным. Я не хотел создавать лишних помех. К примеру, эта история случается между Рождеством и Новым годом, в очень необычную и чудесную неделю. Я еврей, но я люблю Рождество и Новый год и люблю эту неделю, потому что в эти семь дней люди не заняты работой все время. Есть некое состояния покоя, неподвижности времени, время останавливается. И мы счастливы. Мы идем на вечеринки, нас зовут в гости, мы зовем в гости, мы любезны с людьми, люди любезны с нами. Так что это очень необычное время, и мне не хотелось пускаться в любые политические размышления, хотя бы потому, что я ненавижу политику и не люблю религию. Я не люблю все наружное в конечном счете. Один человек, литературный критик, очень важный литературный критик, сказал, что этот роман происходит в Манхэттене, в Верхнем Вест-Сайде, и дает довольно хороший портрет манхэттенской жизни. Но мистер Асиман не упомянул одну вещь. Он не упомянул 11 сентября.
Конечно, я осознаю, что этот человек не понял моей книги. Потому что после 11 сентября все, кого я знаю, писали о башнях-близнецах, о талибах, о бен Ладене. Всем хотелось высказаться об этом. А мне этого хотелось в последнюю очередь. Да, мой роман происходит после 11 сентября, но это не имеет никакого значения для того чудесного времени, которое я описываю. Идет война в Пакистане, идет война в Афганистане, куча всего происходит вокруг. Но героям моего романа это не интересно.
— Вы считаете, что для писателя важнее писать о личном, нежели о социальном?
— Если задуматься об этом, если взять, к примеру, такого писателя, как Горький, то вы знаете, что он был сильно увлечен политикой. Так что это одного типа подход к писательству. Но если вы обратите внимание на лучшие произведения Тургенева, то они совсем не касаются политики. Именно самые лучшие. Мне не нравятся «Отцы и дети», это не самая моя любимая книга. Или, если продолжить ряд таких писателей, — Чехов.
 Но, опять же, речь идет о воздействии несущественного на жизнь. Мой урок, усвоенный от Пруста, состоит в том, что в действительности одна маленькая и бессмысленная сторона нашей жизни замещает содержание всей нашей жизни. Наши жизни вымощены крошечными булыжниками, не имеющими смысла. Так что я оставляю большие темы другим писателям. Мне они не интересны.
Но, опять же, речь идет о воздействии несущественного на жизнь. Мой урок, усвоенный от Пруста, состоит в том, что в действительности одна маленькая и бессмысленная сторона нашей жизни замещает содержание всей нашей жизни. Наши жизни вымощены крошечными булыжниками, не имеющими смысла. Так что я оставляю большие темы другим писателям. Мне они не интересны.
— У вашего романа очень меланхоличный финал. От него исходит неизбывное чувство одиночества. Как вы думаете, безжалостность — критерий хорошего романа?
— На этот вопрос есть несколько ответов. Во-первых, я никогда не знаю, какой будет финал у любой истории. Я не знаю, чем кончится статья. Я не знаю, чем кончится книжная рецензия. Я не знаю, чем кончится эссе. И я совершенно точно не знаю, чем кончится роман. Так что уловка, к которой я прибегаю, или даже не уловка, а мой подход к предполагаемым финалам, — это писать их в условном наклонении. Иными словами, во всех моих книгах и эссе я оставляю финал, приближенный к условному, сослагательному наклонению. Мне так комфортнее.
И этот роман не имеет печального конца, потому что, мне кажется, вы должны спросить героев, собираются ли они спать вместе в ту ночь? Ведь к тому моменту их влечение достигает предела. И что-то прекрасное может произойти в конце. Но я не расскажу вам об этом прямо. Потому что я тоже не знаю. Это все равно что в конце вы узнали бы настоящее имя героя. Это разрушило бы суть книги и ее героя. Поэтому в конце романа я нуждался в сохранении настроения неопределенности, расплывчатости, двойственности — всех тех вещей, которые наполняют мой роман изнутри. Они и есть содержание этой истории. Я не мог закончить роман однозначным утверждением: «Ой, а давай-ка переспим друг с другом теперь». Это не отвечало бы интонации моей книги.
— Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что тема отцов и детей — одна из сквозных и важнейших тем в ваших книгах. Сейчас я читаю ваш последний роман, «Найди меня», и вижу, что эта тема всплывает вновь. Так ли это?
— В моих книгах — да. Но люди не понимают, что события, описанные в книге, не означают простую кальку из личной жизни; не понимают, что в книге эти события могут быть измененными. Я был сильнее, куда сильнее привязан к моей матери, нежели к отцу. Я любил мою мать. Она была очень сильной, пылкой женщиной, а мой отец был злым, но в то же время послушным человеком — и я не могу найти объяснение этому противоречию.
Так что в моих произведениях я все время пробую исправить мои отношения с отцом. Но эта биографическое совпадение ничего не значит. Важно лишь то, что на бумаге. Если вы читали мой роман «Энигма-вариации», то увидите, что жестоким персонажем там выступает мать, а отец — очень душевный герой. И то же самое происходит в «Восьми белых ночах». Там отец — умирающий человек, который не прожил свою жизнь так, как ему хотелось бы, и в нем накопилось много горечи. Я не знаю, чего мои герои хотят от своих отцов или что они хотят исправить со своими отцами. Я не знаю. Я не понимаю этого. Очевидно, психолог вмиг разгадал бы, чем я занимаюсь. Но я не знаю. И не хочу знать, потому что это, если вдруг откроется мне, может помешать моему писательству.
Но есть что-то очень милое и чистосердечное в отношениях между отцами и сыновьями. И слово «откровенность» не раз возникает в книге, потому что это самая наилучшая вещь, которая есть на свете. Она подразумевает и близость, и искренность, и открытость. И думаю, что большую часть нашей жизни мы никогда не открыты с людьми, пока еще не слишком поздно, или когда уже слишком поздно, или когда мы заново осмысливаем, какие вещи могли бы сложиться по-другому. И это тоже условно.
— Это как неисчерпаемая тема. Не имеет значения, сколько книг ты напишешь или сколько тебе лет.
— Да. А в романе «Найди меня» отцу, по сути, принадлежит главенствующая роль. Самая крупная роль, куда крупнее, чем во всех остальных моих книгах. Но если вы прочитаете другую мою книгу, «Из Египта», вы ощутите, что там отец — не очень приятный человек. На самом деле мой отец прочитал «Из Египта», когда был жив, и сказал мне: «Ты не изобразил меня приятным человеком». А я ответил: «Так ты и не был очень приятным!»
Но у вас нет детей. Подождите, когда они появятся, тогда вы начнете терзаться вопросами: сделал ли я что-то не так? будут ли они помнить меня? или не будут? будут ли ненавидеть меня? Я не знаю. Надеюсь, что не будут.
— За последние годы пять ваших книг были переведены и опубликованы в России. Это очень впечатляет.
— Пять книг?
— Да.
— А подскажите, какие именно? Я не в курсе этого. «Из Египта»?
— «Из Египта», да. «Энигма-вариации».
— «Энигма» тоже?
— Ага.
— Я не знал этого.
— Теперь вы в курсе.
— Так неловко. Я не знал. Ладно, продолжайте.
— «Назови меня своим именем», «Найди меня» и «Белые ночи». Пять.
— Хорошо, я счастлив, я правда очень счастлив. Я должен рассказать вам, что был в России шесть или семь лет назад. Мне предложили написать статью о Невском проспекте, и я согласился, потому что во всех русских романах упоминается Невский проспект. Так что я захотел написать о нем. И я поехал в Россию и влюбился в нее. Я влюбился в Санкт-Петербург. И захотел выучить русский язык. Но это уже в другой жизни.
 — Да, непростой язык.
— Да, непростой язык.
— Я полюбил его. Я полюбил все. Каждую вещицу. Но не забывайте, что я был туристом. Я был в России как турист. Легко влюбиться во все, когда ты турист.
— Согласен, это многое меняет. Но, знаете, мой вопрос вот какой: вы чувствуете или получаете какой-нибудь отклик от читателей из России?
— Не особо. Даже немного. В фейсбуке у меня есть несколько друзей из России, и они пишут мне милые вещи, но я использую Google-переводчик, так как они пишут мне на русском.
Но надеюсь, что побываю у вас еще. Потому что я прочитал, кажется, всех русских писателей — по крайней мере, XIX века. Я вырос на чтении русских романов, я проглотил их. Я люблю «Обломова», люблю «Мертвые души» Гоголя. Меньше всего мне нравится Толстой. Но это другой вопрос.
Я пробовал читать «Петербург» Андрея Белого, который мне не очень понравился, по крайней мере, в переводе. И недавно я прочитал еще книгу об алкоголике. Я забываю ее название.
— «Москва — Петушки».
— Да, точно. Я читал ее и видел, как она здорово написана. Я знаю, что она не стала классикой, но это стоящее чтение. Я был рад, что прочел ее.
— Среди читающих людей в России это популярная книга.
— Правда?
— Да. Мы часто цитируем ее, когда выпиваем или просто болтаем.
— О, это очень мило.
 — Над чем вы работаете сейчас?
— Над чем вы работаете сейчас?
— Две вещи. Первую я не могу обсуждать, потому что я ни с кем не говорю о ней. Но вторую я уже доделал. Это три новеллы. Одна только что вышла в формате аудиокниги. Вторая, помимо текста, также выйдет в аудио. А для третьей мы еще ищем издателя. Три новеллы, которые я хочу опубликовать.
Во мне давно возник соблазн написать их. Так, я часто измываюсь над магическим реализмом, который ненавижу. Я не переношу магический реализм. Но я уже так давно насмехаюсь над ним, что сказал себе: пора написать сказку в духе магического реализма — и сделал. Кроме того, люди постоянно жалуются, что я не пишу о женщинах, это неправда. И я решил, что напишу книгу, рассказанную глазами женщины — что тоже сделал. И в третьей новелле я пошутил над людьми, которые постоянно твердят мне, что в моих книгах все время какой-нибудь шестидесятилетний мужчина встречает девушку вдвое моложе, и это, мол, неправильно. Я спросил их: «Окей, вы хотите, чтобы я написал о пожилом человеке?» И они ответили: «Нет». И поэтому я написал историю сразу о двух пожилых людях, которые встречаются, просто потому, что я порочен, так и быть. Но я испытал удовольствие, пока писал эти новеллы, огромное удовольствие. Мне нравится каждый раз пробовать себя в чем-то новом. Хотя, как я люблю повторять, писатель всегда сочиняет одну и ту же песню. Одну и ту же. Мотив может быть другой, или мелодия, или вселенная, но песня остается та же самая.
— Что вы думаете насчет современных романов?
— Это проблема для меня. Может, это связано с тем, что я пожилой или старомодный. Я люблю классиков. И я предпочитаю писателей, которые по преимуществу обращаются к классическим традициям, стараясь сотворить с ними что-то новое.
Я встречаю много современных писателей, которые не знают классиков. Хотя, по мне, классики выделяются в нашей длинной человеческой родословной. Если вы Пикассо, то вы обязаны изучить Веласкеса, а также всех, кто рисовал до вас. И я чувствую, что то же самое необходимо писателям: сначала усвоить наследие предшественников, а затем делать собственные шаги. Но многие люди шагают вперед, не зная, кто был до них. И я вижу, что это уже некое негласное правило среди писателей, и это мне отнюдь не симпатично. В некоторых странах, чьи названия я не скажу, эта тенденция ощущается очень остро. Тебе кажется, что ты читаешь прозу, но в действительности ты читаешь новостную статью. Потому что это все очень быстро написано. И очень просто. Ты можешь перелистывать страницы очень быстро. Но я хочу от литературы не этого. От литературы я хочу времени, глубины, сложности. Я хочу сложности. Я не хочу простоты.
Так что я не читаю много современных авторов. Есть несколько, которых я очень любил. Конечно, они все уже мертвы. Это, во-первых, французская писательница, может, вы знаете ее, — Маргерит Юрсенар. Она написала «Воспоминания Адриана». Думаю, это классическая вещь. И другой автор — это немецкий писатель Зебальд. По мне, он должен был получить Нобелевскую премию. Это серьезный автор.
— Он очень популярен в России сейчас.
— Правда?
— Да. Он что-то вроде самого важного современного классика.
— Это вполне логично. И браво русским. В Америке он плохо известен, за исключением круга очень образованных людей. Здесь никто не читает Зебальда. Но я думаю, что Зебальд, возможно, самый сильный писатель за последние пятьдесят лет.
— Он довольно популярен здесь. Может, четыре или пять его книг были переведены на русский за последние пять лет.
— Это здорово. Я правда очень счастлив за Россию. Это говорит о серьезной разнице. Ведь вокруг столько глупых писателей.
— Это будет мой последний вопрос. Как думаете, существует ли формула хорошего писателя?
— Есть две вещи, которые я повторяю окружающим все время.

Первая — надо читать классиков, надо возвращаться к Гомеру и Вергилию. Мой любимый писатель за все время — Фукидид, а его «Пелопоннесская война» — моя любимая книга. И это даже не фикшн, или это может быть фикшн, мы не знаем ничего, кроме того, что Фукидид — историк. В общем, думаю, что писателям надо читать все, что было написано до них. Возможно, им надо сделать это до того, как им исполнится 20 лет. У них есть время усвоить прочитанное, прежде чем начать писать.
Вторая же вещь, которая мне кажется очень важной, состоит в осознании того, что ты писатель, а не журналист. Между ними имеется существенная разница. Журналисты пишут о том, что завтра наверняка потеряет актуальность. Я не знаю, есть ли такое выражение на русском — завернуть рыбу в газету под конец дня. В какой-то мере газетами пользуются именно для этого: чистить окна и заворачивать рыбу. Жизнь газеты очень, очень коротка. Так что писатель не может мыслить таким образом. Он скорее должен думать, как уловить то, что собирается, или, если ему повезет, что должно остаться навсегда. Так что он обращается к будущим поколениям. Конечно, он может пользоваться не тем языком, или пользоваться идиомами, которые выйдут из моды, или может быть вообще полностью забыт. Но это нормально. Суть в том, что писателю следует мыслить о более важных вещах, чем текущая повестка. В этом есть смысл.
— Безусловно.
— Вы, русские, понимаете это. Я не обсуждаю подобное с остальными. У вас потрясающая и длинная писательская традиция. Каждый писатель — величина. Я имею в виду — от Пушкина и вплоть до XX века. Какое-то ненормальное количество великих писателей. Я не знаю ни одной другой страны, у которой нашлось бы столько писателей за один век.
— Может, Франция в XX веке.
— Да, может быть, Франция в XIX, а также в XX веке. Но у России есть потрясающие традиции. Особенно если сравнивать с Америкой, у которой, если призадуматься, имеется очень, очень мало великих писателей. И все великие американские писатели жили в Европе.
— Например?
— Генри Джеймс, Томас Элиот, Эдит Уортон. Для жизни они выбрали Европу. Хемингуэй, которого я терпеть не могу, здесь скорее исключение. Думаю, он примитивен. Не моего вкуса писатель.
— Спасибо большое за чудесную беседу.
— Спасибо большое вам.